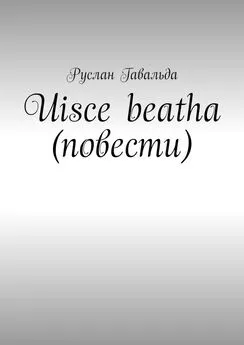Руслан Киреев - До свидания, Светополь!: Повести
- Название:До свидания, Светополь!: Повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Руслан Киреев - До свидания, Светополь!: Повести краткое содержание
В свою во многих отношениях итоговую книгу «До свидания, Светополь!» известный прозаик Руслан Киреев включил повести, посвящённые землякам, жителям южного города. В этих произведениях писатель исследует духовный мир современника во всем разнообразии моральных и социальных проявлений.
До свидания, Светополь!: Повести - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сейчас никому и в голову не придёт, что Ульяна Викторовна Питковская (фамилия по мужу, которую я внутренне никак не могу принять; для меня она так и останется навсегда Уленькой Максимовой), что Ульяна Викторовна, главный технолог консервного завода имени Первого мая, не на месте. Ульяна Викторовна? Не на месте? Ничего глупее вроде бы и не сморозишь, а между тем я убежден, что с не меньшим, если не с большим успехом она могла бы заниматься другим делом.
Этим я ничуть не умаляю её заслуг. Я сам был свидетелем, как скромная и все ещё по–девичьи угловатая Уленька Максимова «выбивала» для детских консервов вишню. Прежде это не было дефицитом, хозяйства завозили вишни столько, что маломощный тогда заводик не успевал перерабатывать её на компоты и варенье и гнал на вино (я ещё помню это вишнёвое вино, оно пылилось, несмотря на дешевизну — двенадцать пятьдесят старыми деньгами! — во всех светопольских магазинах), но в последние годы сады, особенно косточковые, стали нещадно вырубать, и ныне заводу не из чего делать не то что компоты или варенья, но даже комбинированное пюре для детского питания. А тут ещё небывалая зима 1978/79 года, которая хотя и свирепствовала в основном в средней полосе, но ледяные ветры дотянулись и до нас и бандитски пооголили наши восточные и северные районы. Лишь юг да знаменитая Алафьевская долина убереглись от северного разбоя. Но разве в состоянии они накормить всех? Летом 1979 года кило вишни стоило на светопольском рынке три рубля — цена неслыханная для наших южных краёв, а завод имел право заплатить за тот же килограмм лишь четыре гривенника. Такова официальная закупочная цена, объясняла Уленька со вздохом.
На мели оказались консервщики. Лишь яблоки везли им — ранние, непригодные для долгого хранения сорта. Завод перерабатывал их на джем, компоты и пюре для детского питания, но что стоит подобное пюре без добавления вишни? Кое‑кто предлагал заменить её эссенцией, но главный технолог категорически запротестовала. Сама отправилась по хозяйствам — к директорам совхозов и председателям колхозов, и те скрепя сердце уступали с явным ущербом для себя.
Она располагала к себе людей — я столько раз убеждался в этом. Стоило всплыть в разговоре её имени, расслаблялись мускулы лица, напряжение спадало — на секунду о всех своих треволнениях забывал человек и говорил улыбаясь: «Как она там? Привет передавайте — увидите». И хоть бы кто прибавил шаблонное: «Если помнит меня». Уверены были: помнит.
Мало кто из нас, мальчишек, отваживался ухаживать за ней. А она? Её спокойная доброжелательность никого не выделяла, равномерно распределяясь между всеми, кто её окружал. Отсюда, полагаю я, и ощущение той праздничной лёгкости, какое вызывала в вас эта напряженночуткая и приветливая, не защищённая в своём сострадательном внимании к вам девочка. Но час настал, и её тоже закружило. Лет девятнадцать было ей, не больше. Он занимался спелеологией, и это, заметьте, несмотря на хромоту, которая осталась у него после перенесённого в детстве полиомиелита. Вот, пожалуй, все, что мне известно о нем.
Пещеры располагались в тридцати километрах от Светополя. Я бывал тут неоднократно, и не только в детстве, но и уже взрослым, когда приезжал на каникулы домой. Именно тут продемонстрировал однажды чудеса выносливости Дмитрий Филиппович, мой пенсионных лет дядя, которого прельстили не столько подземные чудеса, сколько почти дармовые абрикосы, которыми некогда славились эти места.
Предводимые быстроногой и весёлой девушкой–спелеологом, мы где ползком, где на карачках проделали трудный и длинный путь до подземного озера, и замыкающий шествие худой старик ни разу не поотстал и не пожаловался на усталость. Мы восхищались им. Но мы не знали, что в нашей компании есть человек, который достоин ещё большего удивления. То была Инга, молодая (по супружескому стажу; а так, чего греха таить, она казалась нам старухой) жена двадцатидвухлетнего Женьки Максимова. Она была беременна, о чем мы, разумеется, не подозревали, да и кому бы пришло в голову это, — так неутомим был её интерес к бесконечным сифонам, колодцам, гротам и залам, которые носили самые экзотические названия. Все уже пресытились ими и хотели наверх, к солнцу, где ждала изумительная еда на лужайке между поросшими мхом обломками скал и вековыми дубами, с которых свисали узловатые лианы, а эта неугомонная женщина все тянула и тянула вперёд.
Я ничего не знал про спелеолога, но, приехав на зимние каникулы в Светополь, заметил, как сильно изменилась Уленька. Та же вроде бы худоба, те же огромные глаза, но теперь, слушая вас, она вдруг пропадала — далеко улетали её мысли, а когда возвращались, слабой и невесёлой улыбкой просила прощения за своё нечаянное отсутствие.
Знала все только Инга, но молчала, и лишь спустя много лет, когда появился Борис, моя бывшая соседка, выросшая девочка из двадцать третьего номера, чуть–чуть приоткрыла завесу над тем далёким эпизодом. «Помнишь, ты спрашивал, что это со мной? Не скарлатина ли?» (Это я так острил.) А сама улыбалась моей наивности. Неужто всерьёз полагал, что она прожила жизнь, ни разу не втюрившись? Это её собственные слова, и ответить на них мне было нечего. С ребятами я её видел не раз — в школе, в девятом–десятом классах, и позже, когда она работала на своём консервном заводе и заочно училась — сперва в техникуме, тоже консервном, потом в пищевом институте, но так непринуждённо, так весело, так внутренне свободно держала она себя, что даже у мало знающего её человека не оставалось ни малейших сомнений на тот счёт, что никакой любовью тут и не пахнет. Так оно и было. А с ним (спелеологом) или хотя бы около него я её не видел.
Я не задал вопроса, который вертелся у меня на языке, но Уленька угадала его и ответила: «Я сына его знала… Старшего. Он в пещеры его с собой брал».
Старшего… Непринуждённо, даже весело, но я хорошо помню чуть ли не истерику, которая случилась с ней в тот давний мой приезд на студенческие каникулы.
Инга, из‑за неё все. Ребёнка ждала, но мы по–прежнему считали этот брак Женькиной прихотью, которой рано или поздно придёт конец. Женька образумится, и тогда… Это или что‑то подобное ляпнул в присутствии Уленьки Михаил, начинающий профсоюзный деятель, и я — каюсь! — молча солидаризовался с ним, а она сорвалась. Что мы понимаем в этом? Как вообще смеем судить о таких вещах! Если чувство настоящее, то для него не существует препятствий, оно свободно, и никто — слышите, никто! — не смеет запретить его… Так или примерно так говорила Уленька Максимова, и губы её, помню, прыгали, а в отчаявшихся глазах стояли слезы.
На другой день я уехал, а когда спустя пять месяцев прикатил на летние каникулы, на горизонте уже замаячил Никита.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: