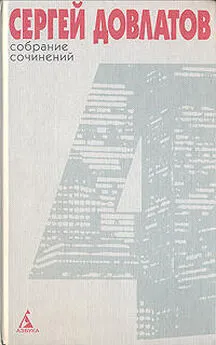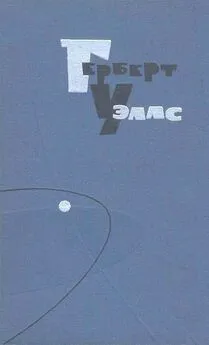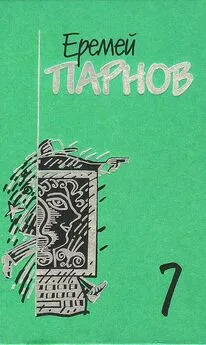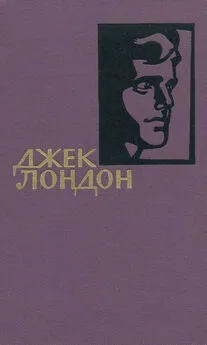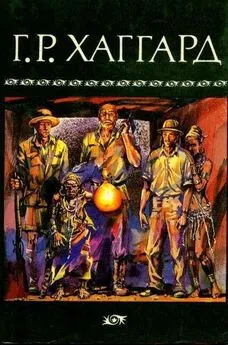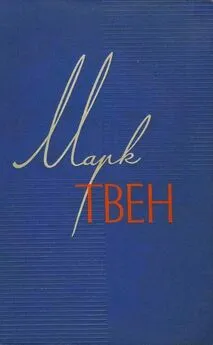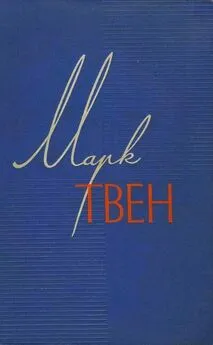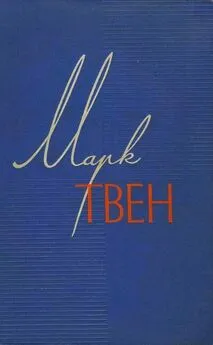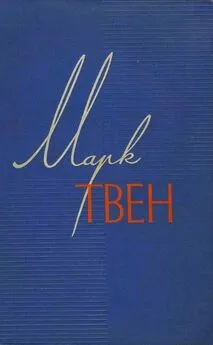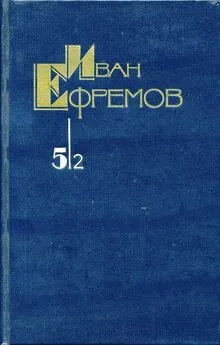Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
- Название:Собрание сочинений. Том I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I краткое содержание
Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.
Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»
Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.
Собрание сочинений. Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Вы совершаете убийство.
Я подумал – эффектная фраза, кривляется, – но попрощавшись, уйдя, оставив Зинку неподвижной, словно бы не верящей этой окончательной моей жестокости, я должен был перед собой оправдываться, себя разжигать логически-верными мыслями – что я не добивался Зинкиной любви, что если вначале она и могла думать о моей ответ-ности, то теперь никаких сомнений у нее уже нет (ведь я действительно ни разу первый ее не позвал и ни разу не захотел из себя выдавить любовных, обязывающих, хотя бы сочувственно-милых слов) – но если мои рассуждения и являлись последовательными, правильными, точными, я всё же оставался неспокоен и ощущал какую-то явную свою бесчестность и неправоту. Я шел по улице, наслаждаясь летним оживлением и теплом, освобожденный от всей тяжелой, себе поставленной задачи, испытывая особую сладость безопасности (ни за что не вернусь в кафе, не увижу Зинки, не поддамся ее упрекам, буду теперь беспрепятственно ждать Лелю), и продолжал себя подогревать давно усвоенными истинами – о непозволительности покушений на чужую свободу, о необходимости отстаивать свою, о том, что бесстыдны всякая навязчивость и не считание – правда, все эти легкие истины, которыми я теперь себя защищал, были мною усвоены по опыту как раз обратному, самоубийственному, безжалостному к себе, когда именно я стыдился своих навязчивых и никакой ответной благосклонностью не оправданных «покушений на чужую свободу» и часто их избегал. Но даже если я и оказывался перед Зинкою прав и сам в этих случаях старался поступать безукоризненно, в памяти оставалось ее приказание – «Вы не увидите Елены Владимировны» – такое решительное (она, вероятно, подумала – надо только уметь обращаться с людьми) и такое беспомощное, вся ее растерянность после моего ухода из кафе и торжественно-жалкий возглас «Вы убиваете». Мы нередко считаем ответственными перед собой тех, кого любим, и от подобной явно-нелепой нашей требовательности иногда просто не можем отделаться – помня это и зная (и потому именно, что я это помнил и знал), я не мог отделаться от противоположного, от чувства ответственности перед Зинкой, меня любящей, от сравнения ее слабости и моей силы, от прямого вывода, что я обязан как-то ее опекать. Мне даже показалось несправедливым совершенно забыть об Иде Ивановне – только оттого, что она молчала, оттого, что скромные всегда проигрывают, – но как раз это соперничество нелюбимых уравнивалось естественно и легко: я любил третью, им обеим постороннюю – Лелю, – и радость о ней немедленно вытеснила всё остальное. Победило спокойное благоразумие, жестокое к бедной Зинке, благородное в отношении Лели – я только жалею, что достигнутая с ней высота не удержится и будет нарушена предстоящей нашей поездкой, чрезмерными надеждами на эту поездку, которые осуществиться не должны. Это единственный провал сегодняшнего моего благоразумия – точно я выпустил на волю скованные прежде желания и с разбегу не мог их остановить.
Мне сделалось легче вести эти записи – больше приготовленных, что-то мое выражающих, слов, больший выбор сочетаний, появилась, выработалась привычка их вызывать, наблюдаемое не исчерпывается сразу, скорее даже цепляется одно об другое, позволяя вытягивать всё новое. Я даже боюсь этой неутомляющей легкости, нарочно задерживаюсь на чем-нибудь мне трудном и, с придирками, упорно ищу неуловимые словесные разрешения и кажущиеся единственно-верными и точными, но никакой искусственностью нельзя заменить внутренно-естественного напора, я нахожу необходимые слова и продолжаю торопливо записывать, точно в погоне за всем тем, что иначе потеряется и забудется: очевидно, прилежная дневниковая работа, как и всякая другая, станет ремеслом от напряжения и времени, и в ней уже не будет трудности или новизны, страсти утаивать и такой длящейся тайной записанное возвышать перед собою. Я перестаю думать о благожелательной любящей женщине, которая одна удостоится прочесть и понять, нет, предвижу читателя, равнодушного, беспристрастного, и, конечно, предвижу его презрительное недоумение: ведь стараясь добросовестно, без плутовства, что-то свое изобразить, я как бы это свое предаю – выискиваю в нем дурное, обычно людьми скрываемое (часто и от себя), и невольно стыжусь выигрышного.
19 сентября.
Вот я кое-что и угадал – о неблагоразумии, о ненужности поездки в Бланвиль, – и никакой у меня нет гордости из-за угаданного, никакой тщеславной внутренней позы. Мне просто не до того – и необыкновенным, неповторимым счастьем представляется время до Лелиного возвращения, пускай вялое, скучное и недостойное. У меня сейчас самое ненавистное из всех состояний – нескончаемый припадок ревности, – и мой соперник, неожиданный, непонятно-удачливый – Бобка, мне даже по-сопернически нелюбопытный. Я сам предложил Леле взять Бобку в Бланвиль, чтобы избежать разочарований (наша идиллия удасться не могла) и соблазнов – от смежных комнат, от поздних прогулок и разговоров: я предвидел Лелино сопротивление и хотел сохранить благоразумную, удобную ясность. Увы, я многого не рассчитал – не только Лелиного каприза, нелепого Бобкиного успеха – но и собственной сохранившейся подчиненности Бланвилевской природе, темной лесной аллее, «кафейному» скату у озера, всему, что я в них представлял и для чего нуждался в их помощи. Была ли в этой природе действительная скрытая отрава, которую я в одиночестве здесь недавно находил, или же приписанное, преувеличенное мной перекинулось и на моих спутников и по странной, сомнительной логике их, свежих и новых, объединило, а меня, этим уже обессиленного, выбросило – во всяком случае, я потерял навсегда возможность достойной с Лелею дружбы, желание добиваться и сохранять ее дружбу, довольствующееся этой дружбой равновесие. Я болен предпочтением мне другого, самолюбием, жестокой, грубой очевидностью, и единственное, что теперь могло бы меня излечить – мое торжество, очевидность моей победы, принятие диких условий – чтобы Леля навсегда поселилась со мной и Бобку не видела и не принимала. Всё это до смешного противоречит истинным нашим отношениям, и я без конца придумываю наивные детские планы (мстительные или утешающие) – как я устранюсь, оставлю Лелю с Бобкой вдвоем, как она, меня потеряв, опираясь на одного Бобку, ужаснется и неизбежно раскается.
Мы приехали к вечеру, и в пансионе нам сообщили о необычайной нашей удаче («quelle veine vous avez») – что как раз открытие казино. Я предложил Леле пройтись до обеда и посидеть на воздухе, в кафе, которое еще в Париже ей восхищенно и многословно описывал (выхваливая, точно свое), но Леля предпочла отдохнуть и себя привести в порядок. Бобка сразу исчез, кажется, ушел куда-то звонить отцу по телефону, и я отправился один по знакомой уже дороге. Было ветрено, прохладно, сыро – впереди меня рассудительный господин доказывал своей даме, что бессмысленно открывать казино к самому концу сезона. Они также направлялись в кафе, и я – из какого-то озорного любопытства – занял соседний с ними обоими столик. Любопытство вызывалось дамой, еще молодой – бледной, тонкой и высокой, как иные модные танцовщицы – и по акценту несомненно русской. Впрочем, говорила она немного, только отвечала – и то рассеянно, по-видимому, часто невпопад. Спутник ее, фиолетовый от аперитивов, плотный и лысый француз, с седеющими усами, с розеткой почетного легиона, старался ее втянуть в нелепый спор о России, нападая довольно безобразно и рисуясь вескими своими знаниями и доводами: «Un peuple merite le regime qu\'il a, vous, les Russes – c’est Lenine ou bien Ivan le Terrible… voyez ceux qui entouraient ce pauvre tzar, its Font tous abandonne, c\'etaient tous des laches, laches, laches». Возможно, он просто ее дразнил, и бледная дама, по примеру множества других эмигрантских женщин, была для иностранца «du meilleur monde» и, значит, «из царского окружения», и к ней непосредственно относились оскорбительные его слова – во всяком случае, она еле слушала, спорила вяло и нехотя и незаметно переглядывалась со мной, как-то слишком выразительно опуская бесцветно-голубые глаза и показывая выставленные вперед, чуть-чуть длинные верхние зубы. Мне захотелось вступить в их спор, ее поразить, что я русский и с нею как бы заодно, а его очаровать достойными, дельными и для меня выигрышными возражениями. Но времени почти не оставалось, меня тянуло поскорее к Леле, и не было сил преодолеть незнакомство и трудность первого смелого шага. Зато на обратном пути, начиненный неиспользованным зарядом, я романтически вообразил денежную зависимость бедной русской женщины (и, пожалуй, не ошибся), и что богатый француз «за свои деньги над нею куражится», и как я Леле передам это редкое, из настоящей жизни, задевающее, печальное наблюдение. Может быть, оно и не являлось таким удивительным и особенным (часто я преувеличиваю то, что именно для Лели готовлю – от огромности для меня ее же безмерно-вдохновляющего резонанса), или просто я не вовремя рассказал, но Леля, с вежливым, обидно-искусственным вниманием, меня выслушала, нетерпеливо (лишь бы не продолжать) кивнула головой и вернулась к прерванному с Бобкой разговору – о телефонных новостях, о здоровьи его сестры. Я был этим как-то несоразмерно-остро уязвлен, потому что заранее уверился во впечатлении и цель его и весь свой порыв считал переполненными доброжелательностью, дружественностью и благородством. Притом я себе казался – из-за неловкого своего вмешательства – чужим и лишним во взрослом Лелином и Бобкином разговоре, и это невыносимое ощущение продолжалось до самого утра и становилось всё более обоснованным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: