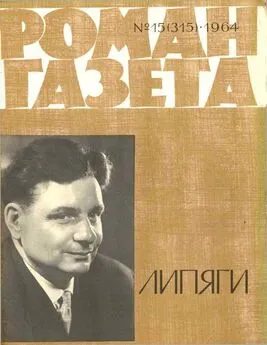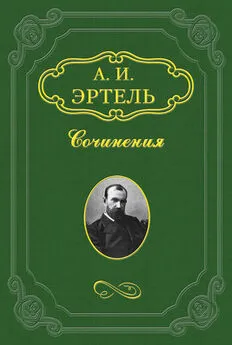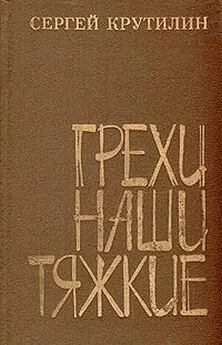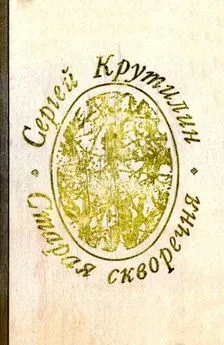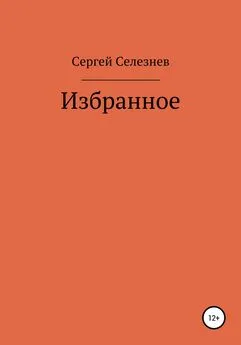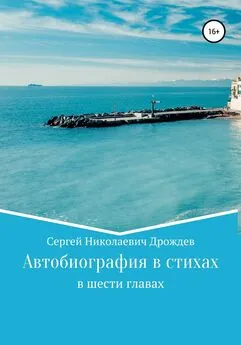Сергей Крутилин - Липяги
- Название:Липяги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1964
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Крутилин - Липяги краткое содержание
…В своем новом произведении «Липяги» писатель остался верен деревенской теме. С. Крутилин пишет о родном селе, о людях, которых знает с детства, о тех, кто вырос или состарился у него на глазах.
На страницах «Липягов» читатель встретится с чистыми и прекрасными людьми, обаятельными в своем трудовом героизме и душевной щедрости. Это председатели колхоза Чугунов и Лузянин, колхозный бригадир Василий Андреевич — отец рассказчика, кузнец Бирдюк, агроном Алексей Иванович и другие.
Книга написана лирично, с тонким юмором, прекрасным народным языком, далеким от всякой речевой стилизации. Подробно, со множеством ярких и точных деталей изображает автор сельский быт, с любовью рисует портреты своих героев, создает поэтические картины крестьянского труда.
Липяги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Земля, на которой стояла изба, была такая же, какая она у нас повсюду, — чуть-чуть коричневая и чуть-чуть глинистая; и была она вся истыкана следами мышиных нор. Но мне эта земля казалась какой-то особенной. Я смотрел на нее потрясенный, словно передо мной открылся не клочок обыкновенной земли, а гробница с прахом предков. Сколько поколений Андреевых выросло в этой избе! Сменялись цари, бушевали над миром революции и войны, а она ничего, стояла. И вот в что ни есть самый обыкновенный день, без видимых на то причин, изба исчезла…
Смотрел я на оголившийся клочок земли, что занят был избой, и думал:
«Вот исчезают с нашей липяговской земли избы; заваливаются, гибнут колодцы; умирают старики. А ведь в каждой избе свой мир; у каждого источника своя история; за каждой прожитой жизнью свой характер. И все это со временем исчезнет из памяти людской. Исчезнет, предастся забвению. А ты жил в той самой избе; пивал воду из того самого колодца; разделял горести и радости с людьми, которых уже нет.
Твой долг рассказать обо всем, свидетелем чего ты являешься!»
И именно в тот миг, когда открылся мне клочок глинистой, испещренной следами мышиных нор земли, и родилась у меня мысль рассказать про Липяги.
С того дня я и начал вести свои «Записки».
— Вот и добили! — сказал Павел Миронович, когда мы выломали последнюю половицу.
— А теперь рубите ракиты! — распорядился Федор.
— Зачем они тебе, эти ракиты? — возразил зять: он был добрый человек и не очень вникал в хозяйство.
— В доме все пригодится. На изгородь пойдут.
— Надо бы у матери спросить. Как она скажет, — поддержал я Павла Мироновича.
Мать стояла неподалеку. Я взглянул на нее в надежде, что она поддакнет: мол, да, пусть остаются ракиты… Голубая горошком кофта, белый платок, оттеняющий каждую морщинку; на лице выражение усталости и скорби.
— Ну так как, мама? Рубить или оставить на память об андреевском корне? — с обычной своей ухмылкой спросил Степан.
— Не знаю, право… А как Федор-то?
Говорит, что надо рубить.
— Раз говорит, чего же тут.
Мне было очень жаль ракиты; не столько ракиты, сколько грачиные гнезда. Но я сдержался и не возразил: какое мне дело! Они уже не мои, эти ракиты. Вот уже больше месяца, как мы с Ниной переехали в новый коммунальный дом, построенный для учителей. Правда, у нас невесть какие хоромы — всего лишь одна комната, но жить пока можно…
Мне все равно — как хотят братья, пусть так и поступают. Может, и правда: ветлы пригодятся на изгородь. Но самому мне пилить ракиты не хочется. Я сказал Федору, что лучше разберу печку, а Степан и Павел Миронович нехай займутся ракитами.
Зять не очень охотно взял пилу. Степан с топором опередил его. Он подошел к раките, росшей перед самыми окнами. Ствол ее во многих местах был ободран и казался трухлявым, податливым. Степаха размахнулся и ударил изо всех сил. Но от его удара на стволе не осталось даже отметины. Комель дерева был словно скручен из стальных канатов. Корни, глубоко уходящие в землю, как кариатиды, поддерживали дерево. Пусть ствол был обглодан скотом, истыкан ржавыми гвоздями и костылями, но корни еще были живы; они свершали свою работу, и дерево, казавшееся мертвым зимой, по весне оживало.
Вот почему топор отскакивал от ствола.
— Пилой, пилой надо! — кричал издали Федор.
Павел Миронович и Степан взялись за пилу.
«Зи-и-ик, зи-и-зик…» — запела пила. Грачи, почуя близкий конец своего гнездовья, загалдели, заметались.
Но люди внизу не обращали внимания на их беспокойство — у людей свои заботы.
Ствол был крепок и неподатлив лишь снаружи. А в середине оказалась червоточина. Пила въедалась в дерево без всякого усилия, и вместо звона слышалось шуршание красноватых рыхлых опилок, сыпавшихся на землю.
Вдруг что-то треснуло. Пильщики отпрянули в сторону. Ракита вздрогнула, накренилась набок, словно ее перевешивали грачиные гнезда.
— Эй, поосторожней там! — крикнул Степаха шоферам, грузившим у сарая бревна.
— Валяй!
Степа ударил топором.
Грузно осев, ракита скособочилась; ветви ее неестественно наклонились, сникли, и медленно, нехотя дерево повалилось на землю. Хрястнули, ломаясь под тяжестью ствола, молодые побеги; в воздух взметнулась пыль с грачиных гнезд, и белый пух повис и закрыл все, будто кто-то там, в вышине, вспарывал перины.
…И рассыпались по зеленой траве серые в крапинку грачиные яйца.
Назаркин клад
Нет такого места вблизи Липягов, про которое не ходило бы у нас легенд и поверий. Рассказывают всякое — и про Разбойный лог, и про Неновое… Но, пожалуй, больше всего легенд связано с Денежным.
Денежным зовется у нас дальний глухой лог. Вернее, не только лог, но и все это место: и гора над оврагом, и ключ, из которого вытекает Липяговка, и болотистый луг вдоль ручья.
Далеко за селом, на самом что ни на есть юру, начинаются две проточины. Одна от «дуба», от угла Жерновского леса, другая совсем с иного конца — от Затворного. Начинаются они незаметно, будто промоины: однако вскоре каждая из них переходит в глубокий овраг. Летом по дну этих суходольных овражков — желтоватая мозаика глиняных наносов: следы весеннего паводка и майских дождей. То тут, то там, могуче взломав потрескавшуюся кору иссохшейся почвы, упрямо зеленеют кусты конского щавеля; изредка на песчаных отмоинах стелются спирали белоглазой повители. А по крутым откосам оврагов фиолетово-дымчатые пятна кашки чередуются с кустами краснотала и ежевики.
Описав полукружья по границам липяговских владений, овраги сходятся. Сойдясь, они образуют глубоченный мрачноватый лог. Место, где сходятся овраги, глухое, отчужденное. Земля тут будто вздыблена могучим подземным толчком. Крутолобый скат порос корявыми приземистыми дубками. А под самым бугром в небольшой расщелине на дне лога бьет ключ.
Вот все это место: и гора над оврагами, и ключ, и заболоченная лужайка вдоль ручья — зовется у нас Денежным…
Помню, когда-то на этом месте, над ключом, был колодец. Дубовый сруб его, поросший мохом, наглухо закрывался крышкой. Вблизи ключа — часовенка; под пошатнувшимся шатровым навесом желтела иконка с ликом божьей матери. Каждой весной после полой воды, вырядившись по-праздничному, мужики с лопатами выходили в степь — чистить полевые колодцы. У нас много было таких колодцев: и в Поповых Порточках, и в Неновом, и у Подвысокого, и все их весной чистили.
Ныне липяговцы не утруждают себя заботой о родниках. Теперь источник у Денежного, как и все другие полевые колодцы, запущен. Сруб давно сгнил; края расщелины, где бьет родник, заросли осокой; вокруг ключа, в траве, валяются ржавые банки из-под консервов, обрывки газет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: