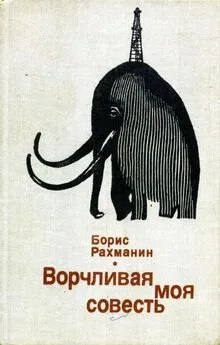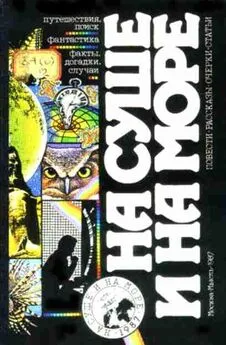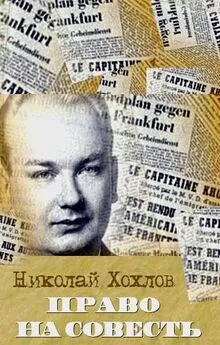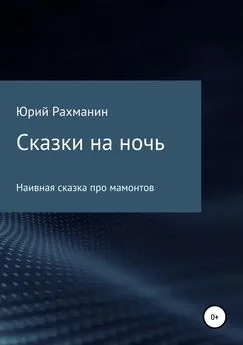Борис Рахманин - Ворчливая моя совесть
- Название:Ворчливая моя совесть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Рахманин - Ворчливая моя совесть краткое содержание
Для новой книги поэта и прозаика Бориса Рахманина по-прежнему характерно сочетание точного изображения быта с тягой автора к условным, притчевым формам обобщения. Своеобразным сплетением романтического и буднично-реального, необычностью обычного автор создает особую поэтическую атмосферу в обрисовке современной жизни нашего общества.
Ворчливая моя совесть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Преувеличенно оживленные вначале, молодечески похваляясь недавним озорством, мы вдруг один за другим притихли, занятые пусть и воображаемым, но смертельным боем. И скоро выдохлись.
Они не принимали условий нашей игры — тщеславные макеты, точно вычерченные схемы, увеличенные с учебной целью, гипертрофированные патроны, гранаты, мины…
Он не желал рассеиваться, как того ждало наше воображение, рыхлый поганый гриб атомного взрыва. Стоял не шевелясь, облучая запертых мальчишек тлетворным невидимым сиянием.
Хватит! Хватит!
Выпустите нас!..
Уже и не соберешь наших разорванных в клочья тел, уже обуглились мы, испарились. Лишь тени наши в мучительных позах застигнутой врасплох наивности останутся на стенах военного кабинета.
Выпустите! Выпустите! Мы больше не будем!
Младенец в неразумной своей жестокости и жадности, ибо он проголодался, хватает острыми, полупрозрачными еще, рыбьими зубками грудь матери. Набухший сосок кровоточит, он не успевает зажить, затянуться. И ребенок сосет молоко, окрашенное живой кровью, кровь сосет…
Морщась от жгучей боли, мать порой не выносит ее и с плачем, бранясь, вырывает грудь из маленького цепкого рта.
Дитя захлебывается криком, оно не понимает, оно знает одно: молоко… Оно жаждет молока.
И, устыдившись, плача уже оттого, что причинила страдание ребенку, мать снова сует ему саднящую грудь, он же, всхлипывая от обиды и в то же время торопливо улыбаясь сбывшемуся желанию, мгновенно отыскивает сосок и снова пьет, пьет, сосет сладкую материнскую кровь.
А она смотрит на него сквозь слезы и теперь сама уже улыбается. Боль ее не уменьшилась, но как бы ушла вглубь. Это боль, равная самоотречению, ее можно вынести.
…В самих себе, в цветке, в насекомом, в камне, в воздухе, которым дышим, даже в том, чего не видим, о чем лишь догадываемся, роемся мы детскими, неуверенными пальцами, вглядываемся во все это слепыми глазами, стремясь утолить голод и жажду познания. Как вздрагивает порой от боли наша добрая мать-природа, как улыбается пытливости своего подрастающего детища…
Горы проплывали внизу, тщетно пытаясь дотянуться до самолета. Поросшие кудрявыми лесами, со светлыми нитками проложенных чьими-то ногами дорог… Кое-где на солнечных склонах пасся скот.
Несоизмеримые со скоростью самолета, медлительные движения коров исчезли вовсе. Казалось, это некая скульптурная группа, мраморная пастораль.
В плавных лощинках были разбросаны по три-четыре домика, прихотливыми потоками текли с вершин огороды и поля.
А вот мелькнуло возле крайнего домика крохотное белое пятно. Что это?
…Порой, когда едешь в поезде, мимо окна проносится полустанок, или живописная деревушка, или просто изба на косогоре у мелкой плоской реки. Меж бумажных стволов берез дрожит лиловый разогретый воздух, в арку из ветвей боярышника убегает тропа…
И говоришь себе, вот бы сойти здесь, испить до дна эту тишину, насладиться ее здоровой солнечной спелостью. И кажется этот на мгновение возникший в окне край именно тем, о котором уже давно грезишь. Да вот ни разу еще не сошел. В билете указан другой пункт.
…Такое же чувство, только, пожалуй, более отрешенное, возникло у меня и сейчас, в самолете. Ведь из самолета и подавно не выйдешь. А надо бы, надо выйти! Невозможно, скажете? Но чем несбыточнее желание на деле, тем осуществимее оно в мечтах. И я представил себе… В зыбком, голубовато-сизом, меняющемся облаке, догоняя рев своих турбин, скрылся заносчивый самолет. И в наступившей тишине, судорожно раскинув руки и ноги, семечком клена долго падаю я вниз. Упруго приседаю, коснувшись земли, и взволнованно оглядываюсь.
Коровы поворачивают ко мне тяжелые головы, смотрят на меня заплаканными, с мухами на слезах, кроткими глазами; зеленая слюна капает с их нежадных губ, розовое вымя касается травы..
Они живые, они двигаются!
А дома? Неподвижность их оттуда, сверху, чудилась мне такою же обманчивой. Почему же они не разбегаются врассыпную при виде нового человека? Или не бегут, по крайней мере, навстречу?
А белое пятно?
Это женщина! Приложив ко лбу козырьком ладонь, она вглядывается, вглядывается… Белое платье так тесно ей, словно она только что вышла в нем из воды.
Я буду счастлив здесь, в этом краю. Знаю…
Кто привык в поэзии к шкатулке лифта, в зеркалах которой можно полюбоваться на собственные сизые щеки, тому, разумеется, не по вкусу крутые лестницы его высотных стихотворений.
Вот он идет, красивый, бессмертный… В купленном за рубежом смокинге, в купленных там же крепких башмаках, в приобретенной у нас, но все же заграничной кепке…
Нет уж, пусть «Москвошвей» сперва достигнет уровня мировых стандартов, тогда и он явится к прилавку, а покуда — вот вам агитка о необходимости повышения качества продукции.
Закинув голову, медленно поворачивая яблоки огромных глаз, с новой рифмой на длинных улыбающихся губах входит он в Дом Герцена.
Мужчина, черт возьми, а не облако в штанах, твердым ясеневым кием разит скользкий земной шар.
— А! Это вы?
Снисходительно треплет он по плечу способного юношу, на год разве моложе его самого.
На ошеломляющей, но естественной для него высоте даже неведомо ему чувство зависти. Только одиноко ему в горних этих областях оставаться ненастной ночью.
А утром…
Неслышно подкрадется сзади очкастый оппонент и бросит к его большим ногам дымящуюся бомбу коварного вопросика. Мгновенно получив ее обратно, причем тысячекратно усиленную, всю жизнь будет потом оппонент показывать знакомым ее отпечаток — красный желвак на лбу — и писать сочные мемуары.
Киевский вокзал в Москве. Вхожу под его высокие своды, где люстры лупят бессонные совиные глаза, и со всех сторон обдает меня гибкой, плавной, раскатистой речью.
Как заботливо укрыл московский снег по-южному зябкий Киевский вокзал…
Киевский вокзал…
Мажорный пролог к Украине, громкое напоминание о ней, ее самое близкое и понятное мне посольство.
Я свой в этих вечно шумных, пышных и неопрятных залах.
На рифленом цементном паркете за недостатком мест на изогнутых скамьях спят, разинув рты, поросшие щетиной, жилистые мои земляки. Под головами у них объемистые пакеты со словом «ГУМ». Между разметавшимися во сне запорожскими телами их гуськом пробираются куда-то робкие отутюженные интуристы.
Под желтой люстрой хлопотливо машет крылышками воробей.
Обнимая невозмутимого морячка, медленно плачет мать.
Всему, что охватывает здесь мой взгляд, согласно вторит разбуженное свиданием сердце. Еще не скоро на первую колею Киевского вокзала прибудет новый день, но я читаю уже на стене, над спящими в углу усталыми людьми, утреннюю, полную надежды газету.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: