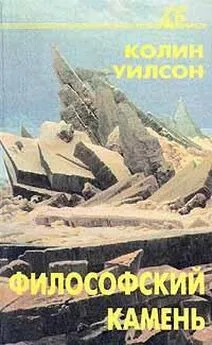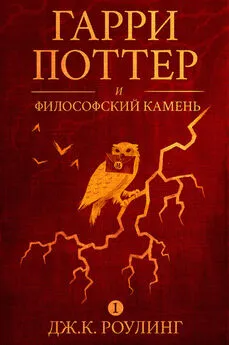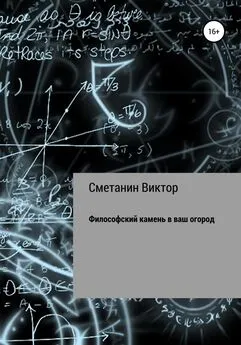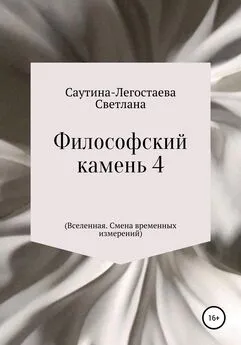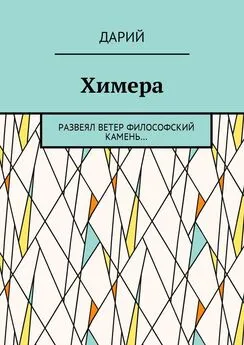Сергей Сартаков. - Философский камень. Книга 2
- Название:Философский камень. Книга 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Сартаков. - Философский камень. Книга 2 краткое содержание
Серге́й Венеди́ктович Сартако́в (1908–2005) — российский советский писатель, один из высших руководителей СП СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1970). Герой Социалистического Труда (1984). Член ВКП(б) с 1951 года.
Первая книга романа ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ издана «Молодой гвардией» в 1966 роду, а также опубликована в «Роман-газете». Главный герой романа Тимофей Бурмакин - это потомок героев романа «Хребты Саянские».
Предлагаемая вниманию читателей вторая книга ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ имеет значение и как самостоятельное произведение, хотя в ней находят завершение судьбы героев первой книги - Тимофея Бурмакина, его классового и личного врага бывшего карателя Куцеволова, Людмилы и Виктора Рещиковых и других.
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ, по определению автора, одна из его «медленных книг». Такие книги создаются годами, но и остаются в памяти читателей тоже на долгие годы.
Философский камень. Книга 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И сложный тот разговор ничуть не способствовал установлению взаимного понимания между товарищами. Сворень тогда раскричался, доказывая, насколько не прав Гуськов. Штаб — это голова, мозг армии. А палить из винтовок любые руки смогут. Гуськов не отрицал высокой роли штабов и говорил лишь о своих личных склонностях. Сворень это пропускал мимо ушей и повторял убежденно: «Не помогла тебе школа, Никифор, не помогла! Ничему не научила! Взгляд твой на дело плоский. И глаза кверху ты боишься поднять!»
Особенно взорвало его то, что остался он в одиночестве, даже Надя, жена, не поддержала.
Но, прощаясь, он уже мило улыбался: «Славно поспорили, в спорах, по Марксу, рождается истина». Приглашал к себе в гости. И обещал сам не забывать старого товарища.
Заходил изредка. И обязательно любой, казалось, самый обыденный разговор разжигал до крика. Разумеется, собственного крика.
А две Надежды тем временем мирно и согласно хозяйничали на кухне, готовя что-нибудь вкусное к ужину.
13
В этот раз Сворень вошел и чуть не от порога, забыв поздороваться, воскликнул:
— Ну, хорош ты, Никифор! Что я тебе, далекий человек? Почему ты горем своим не хочешь поделиться? Через Надежду твою моя Надя узнала.
Гуськов приподнялся из-за стола, подвинул в сторону конспекты по баллистике, над которыми работал, протянул руку Свореню. Отозвался невесело:
— Здравствуй, Владимир! Да, горе у меня очень большое. Поэтому, наверно, оно так и подавило меня. Неожиданностью своей. И не привык я как-то бегать в люди, навязываться: «Посочувствуйте, вот беда постигла меня». А таить от людей, почему же, ничего не таю. Наденька утром была, Надюша ей все рассказала.
Сворень, прихрамывая, несколько раз прошагал по комнате из угла в угол. И все покачивал головой. Подсел, наконец, к столу.
— Так-то оно так, Никифор! И не так. К посторонним людям зачем же бегать? Согласен я. Ну, а с тобой сколько соли мы вместе в Лефортовском съели? Ты ведь еще вчера вечером известие получил. И я тогда был дома. Ну? Скажи уж прямее: о товарище своем не подумал.
— Хорошо Извини, Владимир, — коротко сказал Гуськов.
Ему неприятно было это посещение. Неприятен и весь разговор. Самый тон разговора. Но он не знал, как заставить Свореня побыстрее уйти, не. указав ему прямо на дверь. — Как же он так глупый цыпленок, брат твой Панфил на вражескую пулю нарвался? — Сворень подобрался к конспектам Гуськова, стал их перелистывать, небрежно, словно чистую бумагу. — Добро бы в войну. Вспоминаю гражданскую. Было дело. А то ведь в мирное время погиб. Ни за понюх табаку. Сам даже никого из этих бандитов не срезал.
— Отсюда не видно, как там все это было, — сухо проговорил Гуськов. — И чего же нам, живым, мертвого осуждать? Он, если ошибка была, заплатил за нее самую :высокою цену. То, что ты, Владимир, сейчас сказал, — плевок в лицо убитому.
— О-ого! — протянул Сворень. — Как ты сразу :мои слова повернул! Но я не сержусь, я твое состояние понимаю. Прими мое дружеское сочувствие.
— Спасибо.
Сворень отодвинул от себя конспекты Гуськова, поправил подогнувшуюся страничку, разгладил ее ногтем.
— Баллистику готовишь? Что ж, конечно, жизнь идет, и тебе она светит. А Панфила я упрекнул потому, что в наше с тобой время, повторяю, не так воевали. Умнее.
Он словно бы нечаянно тронул орден на труди, который 'всегда исправно перевинчивал на другой пиджак, если приходилось переодеваться.
— Наше время и теперь еще не прошло, — заметил Гуськов, — и впереди наше же время будет. А воевали всегда по-всякому. Случалось, что и в мирной обстановке.
— Ты это, Никифор, не сравнивай! — взорвался Сворень, задетый намеком Гуськова за живое. — Ногу я повредил не по своей глупости, а других от увечья, может, и от смерти спасая. И это тебе известно.
— Мне известно. Все, что ты делаешь, Владимир, — это правильно. А другие только и знай, ошибаются.
Гуськов говорил сдержанно, ровно, без малейшего оттенка иронии в голосе. И это особенно злило Свореня. Из самих слов Гуськова формально следовало, что он признает его превосходство. Стало быть, возмущаться нет повода, нет основания. Но ведь ясно же: издевается Никифор! Это тоже понятно. А как сбить его, как взять над ним верх?
— Если я вспомнил гражданскую войну, — уже тише заговорил Сворень, хотя ноздри у него все ещё раздувались, — если я вспомнил те времена, так потому, что судьбу республики тогда мы решали кровью своей. Не берегли, не жалели крови; хотя она была дорогая, не так-то много бойцов числилось в Красной Армии. Вера в правое дело, вера в победу стократную силу каждой капельке крови тогда придавала! Шли вперед и вперед. Выбить врага с земли нашей было нужно. Помнишь золотые слова из песни: «Мы к битве с восторгом рвались»? Ну, а сейчас, спорь не спорь, боевой накал поубавился. До Тихого океана дошли, столбы на границе свежей краской покрасили — не позволят себе враги наши ее поцарапать! О любви к человеку заговорили. А человек — это штука такая…
Человек человеку волк? Гомо гомини лупус эст? — словно бы поддакивая Свореню, полувопросительно проговорил Гуськов.
— Человек человеку волк! — подтвердил Сворень. — Не знаю, что ты прибавил еще по-французски…
— По-латыни. Повторил то же самое. Как-то сильнее звучит на языке предков тех, от кого через Бенито Муссолини и в наши дни эта страшная мораль вошла.
— Вошла правильно! — Сворень торжествовал. — Пока кругом враги, не зевай! Не будь дураком.
— А ведь тяжело жить, Владимир, если видеть кругом только дураков.
— Я и говорю: тяжело. — Сворень в ровном тоне Гуськова опять не сразу почувствовал иронию, не уловил, на чем все же сделан акцент. — Чтобы самому легче жилось, успевай врага прикончить, прежде, чем он тебя убьет. Чего — не сердись, снова напомню — Панфил твой сделать не сумел. Ну ладно, Никифор, хватит об этом! Но, между прочим, скажу: военное дело, оно все-таки куда проще! Враг понятен, виден; Опять же, бойцы в нашей, рабоче-крестьянской армии — дисциплина! Скомандовал, и зашагают куда положено. А вот посидел бы ты на моем месте!
— Да уж твое место…
— А что? Ответственность за чистоту кадров! Враг хитер. Ему здесь на брюхе через границу переползать не надо, он. прямо через проходную норовит.
— Но ведь, сколько я знаю, дела на заводе хороши.
— Потому и говорю: нелегкая моя доля.
— A-а! Понимаешь, а я подумал: люди у нас хорошие. По правилу: человек человеку друг.
Сворень растянул рот в злорадной улыбке, несколько раз шумно придыхнул, готовясь чем-то совершенно неотразимым под корень подрубить Гуськова, но гут на пороге появилась Надюша, в ситцевом халатике, в стоптанных туфлях, с Антошкой на руках. Распаренная докрасна, вся в' бисеринках пота, она вытирала мохнатым полотенцем еще мокрую головенку сына.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: