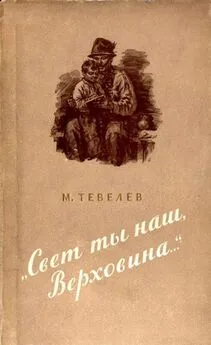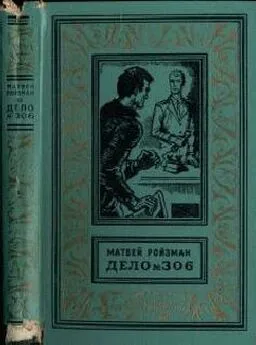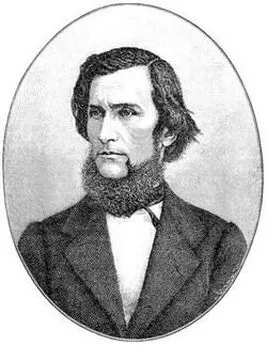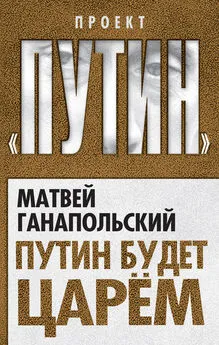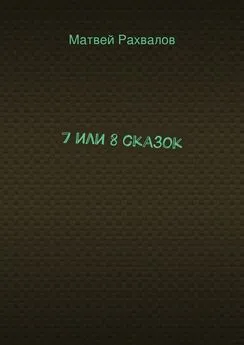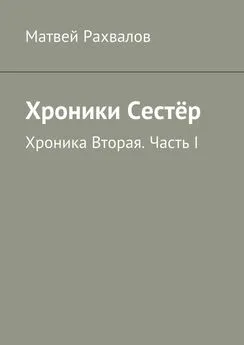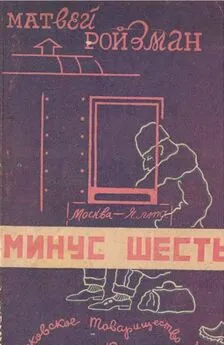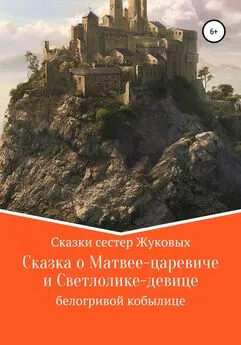Матвей Тевелев - «Свет ты наш, Верховина…»
- Название:«Свет ты наш, Верховина…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1954
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Матвей Тевелев - «Свет ты наш, Верховина…» краткое содержание
«Свет ты наш, Верховина…» — роман русского писателя и сценариста Матвея Григорьевича Тевелева (1908–1962). По роману в 1957 году был поставлен один из известных спектаклей Закарпатского театра.
«Свет ты наш, Верховина…» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Годы в его рассказе — как ступени лестницы, подымающейся все выше и выше. Вот первый урожай, собранный с колхозных полей. Вот трактор, поднявший целину на раскорчеванной пустоши. Вот первый гектар яблоневого сада, заложенного на склонах молодежью. А вот и страшное событие, потрясшее душу: зверское убийство кулаками первого председателя колхоза «Путь к коммунизму», заменить которого пришлось комсомольцу Александру Гончарову.
Годы — ступени, и Гончаров словно ведет меня по ним. Я завидую его памяти. Он помнит все, вплоть до количества и веса зерен в колосках в урожайные и неурожайные годы.
Гончаров вытаскивает из кармана кителя целлофановый конверт с фотографиями.
— Работа кружка колхозных фотолюбителей, — произносит он с улыбкой.
И на раскрытый географический атлас ложатся одна за другой фотографии колхозного сада в пышном весеннем цветении, некогда заложенного комсомольцами, белостенных зданий фермы, старого пастуха Никифора Яковенко среди своего стада, бригадира и звеньевых, доярки, выучившейся на зоотехника, кузнеца, ставшего директором машинной станции.
— Это мы смотрим спектакль в колхозном клубе в тридцать девятом году, — объясняет Гончаров и сам подолгу всматривается в дорогие ему лица. — А это моя жена и девочки мои возле дома, — произносит он глухо, почти шепотом, и повторяет: — Моя жена и мои девочки…
К столу подходит Илько — худенький, но крепкий большеглазый мальчуган. Трудно сказать, на кого он похож. Иногда мне кажется, что он весь в Ружану, а другой раз сосредоточится на чем-нибудь, сдвинет брови, — и вдруг всплывет передо мной далекий образ матери.
Взобравшись коленями на свободный стул, Илько молча рассматривает фотографии, затем он переводит взгляд на майора и его китель, украшенный орденами.
— А за что у вас награды? — спрашивает Гончарова Илько.
— За разное, — отвечает Гончаров. — Первый орден — за Сталинградскую битву, второй — за битву на Днепре…
— А маленький? — и Илько осторожно дотрагивается до маленькой медали с зеленой ленточкой.
— Это медаль, присужденная Сельскохозяйственной выставкой в Москве. — И, обернувшись ко мне, добавляет. — Тоже за битву, но всего лишь за травы… Была такая битва, Иван Осипович, за горную люцерну…
— Горную люцерну? — переспрашиваю я и напрягаю память.
— И не вспомните, — говорит Гончаров, — ее еще ни в одном атласе растений нет. А будет, обязательно будет! В нашем колхозе и родилась она впервые на опытном поле хаты-лаборатории. Десять лет приучали мы ее сначала расти на высотах, а потом давать большие укосы в первый же год высева и не бояться сорняков, а самой глушить их. Трудно приходилось, советовали нам бросить такую затею, а мы не сдавались: мы чувствовали силу этой травы, незаменимой для скота и для почвы. В последний год перед войной мы уже скашивали ее с гектара в два с половиной раза больше, чем с такой же площади альпийского клевера. Не трава, а кормилица!
Разговор о травах тянется у нас допоздна. Гончаров с увлечением осматривает собранные мною экземпляры меума и образцы почв, спорит, советует, что-то заносит в свою записную книжку, а выслушав мой рассказ о Федоре Скрипке, Святыне, Семене Рущаке, о выкроенных ими для опытов клочках земли, задумывается и долго молчит.
Уходит Гончаров от нас далеко за полночь.
На прощание мы выпиваем с ним по стакану вина.
— Не знаю, — произносит он, — удастся ли мне еще раз заглянуть к вам, скорее всего, что не удастся. Но после войны приеду обязательно. Думается, что и у вас, в Карпатах, теперь все пойдет по-новому. А если появится у вас желание написать мне, буду очень рад.
И я записываю его кубанский адрес.
Больше он не пришел.
Через несколько дней явился ко мне попрощаться и Шумкин.
— Отдых кончился, Иван Осипович, — оказал он. — Пора вперед идти. Такое наше дело: долго на месте не задерживаться. И майор ваш тоже вперед ушел; я у них в части вчера был, когда они на машины садились… А между прочим, — вздохнул Шумкин, — солдаты рассказывают, что у товарища майора ничего и никого не осталось на Кубани.
— То есть как?
— А так вот, фашист уничтожил. Жену с детьми замучили, а от колхозного сада, построек, ферм остались одни головешки да пепел…
— А он знает об этом?
— Как же ему не знать, если он сам и освобождал родные свои места! Знает…
63
Наконец наш край был полностью освобожден. Впервые за долгие-долгие столетия получал он право сам выбирать дорогу и решать судьбу свою. Но дорога давно уже была избрана, и не за круглым столом, не на тайном сговоре дипломатов, а в горных селах, в лесных колыбах и солотвинских солекопальнях. Как надежду, лелеяли и берегли ее в темные ночи верховинские пастухи и лесорубы, мукачевские табачники и хлеборобы долины — все, кому дороги были будущее детей, родной язык, кто в клятве своей произносил: «На мою руську душу правда!»
Не знаю, кто первый бросил клич: «Домой! До матери нашей Советской Украины!» — но он стал волей освобожденного народа. И согласно этой воле на двадцать шестое ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года было решено собрать в Мукачеве съезд Народных комитетов Закарпатской Украины.
К этому дню в Мукачево съехались не только делегаты, но множество народу из Ужгорода, Хуста, Рахова и Берегова. Я был избран делегатом от Ужгорода.
Погода двадцать шестого ноября была пасмурная и сырая. Над Мукачевом то начинался, то переставал моросить дождь. Низкие тучи обложили небо. Задувал холодный ветер — обычная погода поздней осени. Но город, казалось, не чувствовал этого. Затянутый в кумач флагов и транспарантов, он выглядел как-то по-особому празднично. Улицы уже с утра были запружены пестрыми толпами народа. Горожане смешались с селянами, прибывшими из самых отдаленных округов. Тут и там мелькали расшитые кептари [40] Кептарь — овчинная безрукавка, расшитая бисером.
гуцулов, серые куртки иршавцев и воловчан и мохнатые, словно бараньи шкуры, гуни перечинцев. К кептарям, гуням и курткам были приколоты пышные алые банты. На шляпах, вместо обычных еловых веточек и пучков кабаньей щетины, красовались алые бумажные цветы.
Особенно людно было перед кинотеатром, где должен был заседать съезд. Делегации прибывали одна за другой. Они проходили под большой аркой пятиэтажного дома к подъезду кинотеатра. У подъезда их ждали распорядители с кумачовыми повязками на рукавах, и только слышно было:
— Откуда?
— Из Ростоки!
— Откуда?
— Из Русского поля!
— Откуда?
— Верхних ворот!
— Ясеней!
— Богдана!
— Синевира!
Такие дни помнят всю жизнь как бы долга она ни была и сколько бы других радостей через нее ни проходило. И в моей памяти хранится залитый светом зал с переполненными ложами, балконом и партером. Помню уставленный цветами стол президиума, помню, какой овацией отзывался зал, когда люди, сменяя друг друга на трибуне, требовали воссоединения с большой Родиной, и как тесно становилось рукоплесканию в высоких стенах, когда с восхищением и благодарностью говорилось о Советском Союзе. В этом порыве было заключено все: свобода, принесенная советскими воинами, и вера в будущее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: