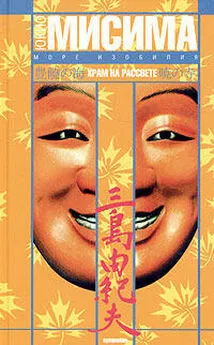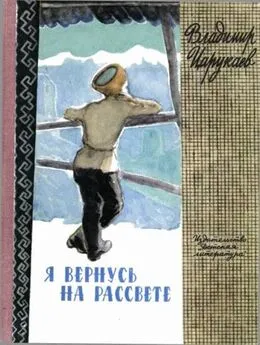Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете
- Название:Большаки на рассвете
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вага
- Год:1987
- Город:Вильнюс
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете краткое содержание
Действие романа происходит в Аукштайтии, в деревне Ужпялькяй. Атмосфера первых послевоенных лет воссоздана автором в ее реальной противоречивости, в переплетении социальных, духовых, классовых конфликтов.
Большаки на рассвете - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Ты уж скажешь! — выдыхает Юзукас. — Ты уж сравнишь. Говоришь невесть что.
— Тяни скорей, черт тебя дери! Ремень скинь! — рычит выбежавший во двор Визгирда, хватает коробку передач и бросается с ней наутек. В овине гаснет свет, мотор замолкает.
— О боже, милосердный! — стонет кто-то, уронив голову на стол. Среди снопов, там, где мужики кого-то волокут, стоит Константас и светит фонарем. Это Фелиция. Мужики выносят ее во двор, кладут на телегу, и телега катит с грохотом по большаку.
…Побелевшая, с раскрытым ртом, лежит в телеге Фелиция, и снежинки садятся на ее ресницы. Не зная, куда девать свои огромные руки, крутится среди мужиков Аполинарас. За его спиной багровеет пучок окровавленной соломы.
Ужас понемногу рассеивается.
— Может, легко ранило, — говорит Константас, и Юзукас вдруг вспоминает, что отец обещал завтра хряка прирезать. «Завтра пойдем на коньках кататься», — мелькает у него. Но радость, искрившаяся в его глазах, уже потускнела. Ему жалко Фелиции; Фелиции, которая стонет в тряской телеге; Фелиции, которая не раз одаривала его пригоршней земляники, крыжовника или вишен, хотя их строго-настрого запрещала срывать ее мать; Фелиции, которая так весело смеется и которую почему-то называют распутницей. Жаль и брата ее, Аугустаса, очень жаль.
На следующее утро он будет долбить носками ботинок, смазанных солидолом, тонюсенький звонкий ледок и оглядываться на белую крышу избы Кайнорюса, на восходящее солнце, на леса, оглядываться и думать о Фелиции. Нет-нет да и остановится, чтобы прислушаться: авось, снова застучит молотилка.
Разговор двоих в темноте. Беззвучный, только угадываемый. За стеной жует жвачку скотина, спокойно и мерно дышат дети, шурша тюфяком, переворачивается с боку на бок старая Даукинтене (она живет то у одних, то у других). У Криступаса в доме еще звучат голоса, молотьба в этих дворах закончена, но Визгирде сдается, что он не запер дверь. Потом он спохватывается: не мое уже это, мне-то что?
О чем ты думаешь? Почему ты молчишь? Столько лет мы прожили вместе, и дети уже выросли, а ты, кажется, так и не сказал мне ни одного ласкового слова, от которого на душе становится теплей. Войду, бывало, в хату, вконец намаявшись за день, вернусь с огорода ли, из хлева ли, от скотины, первым делом печку затоплю, квашню заведу, кручусь как белка в колесе, мальчугана одеть надо, накормить, а суставы так ломит, чувствую себя чужой, даже глаз не подниму, ничего не вижу, словно и не мое здесь все — и дети, и дом, и я сама. Лягу, бывало, спать и все на проселок смотрю, словно жду чего, может, думаю, кто придет… Иногда за всю ночь глаз не сомкну. За окном, глядишь, рассвело, утро, за стеной петух — хлоп крыльями, вставать пора, и будто голос Криступаса слышу, а порой вроде Казимераса, или мать все зовет, думаю, что-то стряслось или стрясется. И почему я должна себе голову морочить из-за них, взрослые, слава богу, не дети, а все-таки каждый заботит.
Штопаю, бывало, латаю мальчугану одежонку или еще что-нибудь делаю — всякие мысли в голову так и лезут, так и лезут. И такая порой усталость охватывает, такая слабость, прямо суставы ломит. И сама не ведаешь, что это — то ли мука, то ли счастье, только вся ты словно в адском огне, помрешь — не заметишь. Помню, Эльжбета, когда рожала, так страдала, а лицо сияло. Вот и не знаешь, мука это или счастье…
Визгирда смотрит в темноту. Думает. Эхом отзываются его мысли, отлетающим от свода овина, от крутосклонов и перелесков, окрашенных в алый цвет заката.
То, что ты называешь счастьем, — гадость. Мне, мужику, этого мало, слишком мелко это для меня. Взять Резёкаса — все бросил и ушел, и Путримас, и Криступас — все на распутье, меня, может, господь позовет, как отца, царство ему небесное, до австрийской земли дошел, покойник… По правде говоря, то, что бабе счастье, для настоящего мужика сплошная гадость.
— Ты что такое мелешь? Из пекла сбежала, что ли? Кто-нибудь из твоей родни там, право слово, в котле кипел.
Взять твоего брата Константаса. Разве он мужик? Только и знает: за женину юбку держаться.
Тишина и тяжелые вздохи. Тякле сложила руки на груди, он — сунул под голову. Мысли тихие, словно вода течет. Разве что зажурчат на стрежне и тихо вольются в омут. Давным-давно река мысли проложила русло, и никто его не изменит. Те же преграды встретятся ей на пути, те же извивы и отмели, те же откроются ей картины — потонувшие в дымке дали, отливающие смутным светом крутосклоны, подернутые туманом леса, звончатый крик журавлей; заросли орешника и скрип колес на пыльном проселке, а изредка — грохот телеги, спешащей на рынок по скованной стужей земле.
…И видится жене: стоит он на берегу, смотрит в воду, подтягивает сползающие штаны. Или сидит весной по вечерам на склоне и слушает, как соловьи заливаются. Что с ним? Над росистыми лесами плывет месяц, кочуют туманы. Остановится где-нибудь на краю луга и слушает — он позже всех ложится. Время бежит и бежит, пока не доберется до Великого Океана. Каждая волна штурмует свою преграду, то накатит, то снова отхлынет… Вода… вода и тени предков, мелькающие в ночи — все холмы и долины исхожены ими, засеяны, ощупаны. Тихим шепотом отзываются голоса, как аукнется, так и откликнется. Одна плоть, одна и душа, а ты думал: заговорит плоть — душа отзовется.
Сон не идет, и Визгирда сетует на себя: мог бы еще немного почитать. И лампу зажигать не надо — в комнате светло от первого снега. Светятся двери, стены, окна, светится белая печка, дрова… Тихо, только изредка доносятся песни и смех. Криступас водится со всеми, скоро дурного человека от хорошего не отличит… Что ты знаешь о добре и зле, спросил он однажды. Земля всех уравняет, все мы слепы. Ты говоришь, как пророк, сказал я. Все свысока, все так с важно, словно ты и не нашенский, а откуда-то издалека, словно ты гость, приехал нас уму-разуму учить, словно мы с тобой свиней не пасли, на вечеринки не хаживали, с одними и теми же девками не плясали. Правда, потом ты нас презрел, уехал и не захотел вернуться. И не вернусь, ответил ты, кто раз ушел, тот не вернется, но не чужой я вам. Шут тебя знает, кто ты, сказал я. Это Амбразеюс тебя с пути истинного свел. Меня? С пути истинного?! Это ты… только один путь видишь, а что прикажешь тому, у кого их тысячи? И власть, говорю, ты хвалишь. А мне сдается, она большую ошибку делает, обещая все на свете. Разбалует людей, обмякнут они и будут ждать манны небесной. Многое нравится мне, но и плохое есть. Люди всегда будут тягаться друг с другом. Что одному хорошо, то другому худо. Достатка во всем никогда не будет. Надо об этом говорить прямо. А нынче… все головы вперед устремлены. Что же нас ждет впереди? Старость, упадок, смерть. Чем же утешаться в беде? Кому-то вроде бы не доверяют, что-то скрывают. Но что скроешь, если все на виду… Терпеть — удел каждого, а нынче… об этом ни слова; что ни случится, мчатся друг к другу, крик, гвалт, жалобы. А праведников сколько, каждому правду подавай! Верно Криступас говорит: «Где ты, правда? Если у тебя не мои глаза, так чьи же?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: