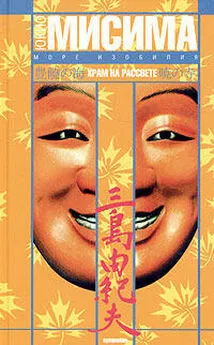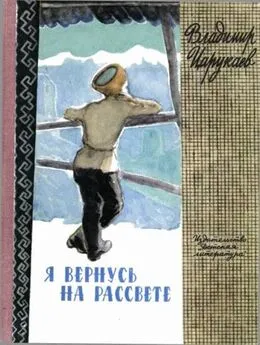Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете
- Название:Большаки на рассвете
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вага
- Год:1987
- Город:Вильнюс
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете краткое содержание
Действие романа происходит в Аукштайтии, в деревне Ужпялькяй. Атмосфера первых послевоенных лет воссоздана автором в ее реальной противоречивости, в переплетении социальных, духовых, классовых конфликтов.
Большаки на рассвете - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лица разгоряченные, руки торопливые, каждая из сестер поглядывает через плечо другой в зеркало, а их мать сидит в кресле, сложив руки на переднике, и глаза ее сияют добротой. «Скорей, сестрицы, скорей!» — кричит Але. Только старшая, Ангеле, не спешит, смотрит куда-то серыми глазами и с затаенной нежностью трогает росистую рюмку тюльпана. Голова ее своенравно склонена набок, тугим веночком уложены косы. «Ты что, не пойдешь?» — спрашивает Але и, схватив Юзукаса под мышки, крутит его, а потом чмокает горящими губами. «Фу, какой, все платье мне смял», — «Там еще не так сомнут». Ангеле и слова не скажет, сидит, и сумрак, запрудивший комнату, словно струится из ее глаз. Тот, кого она ждет, придет, когда совсем стемнеет. Придет и непременно стукнется головой о дверной косяк — уж очень он длинноногий. Ангеле почти с ним не разговаривает, услышит его шаги, рассмеется и тут же замолкнет. Лампу не зажигают, и в густеющие сумерки частенько врывается стук дождя и свист ветра — изба стоит на самой опушке леса. Когда тихо, то слышно, как за лесом-бором поет собравшаяся на гулянку молодежь, как плачет гармоника. И еще видно, как по вечерам полыхают летние закаты, как сполохи заливают холмистые дали и дороги. Все умещается в этих вечерах: и далекий писк трясогузки, и маячащая на пригорке, на самой развилке, одинокая береза, и узенькие тропки, и скрип калиток, и привычные звуки затихающей домашней возни.
Когда кавалер Ангеле уходит, Юзукас хватает тетку за руки — они то быстрые, то дрожащие от неожиданной радости, то усталые, словно желают покоя и себе, и другим. Войдет, бывало, коренастый, пропахший древесиной и прудом дядя Повилас. День-деньской он тешет дуги и полозья для саней. Войдет, молча снимет шапку, положит ее аккуратно на лавку и тянет руку к ложке. Ест аппетитно, медленно, изредка поднимет голову, спросит о чем-нибудь. Еда немудреная — свекольник. Свекольными листьями весь двор усыпан, крыльцо, даже порог. Их уминают и гусята, и свиньи. Юзукас, бывало, сидит на лавке или в постели и следит за тем, как тетка бродит по росистому огороду с мешком в руке и пихает в него ботву, а сам поджимает под себя теплые ноги. Юзукас с удовольствием хлебает свекольник. Навернет миску, встретится с бабушкой глазами, всегда что-то говорящими ему. Бабушка придвинется поближе и сунет ему в руки кусок рафинаду или какое другое лакомство. А то, бывало, вытащит откуда-то копейки и дает тому, кто в город едет, купи, мол, что-нибудь моему постреленку. О других своих внуках она говаривала: «У них родители есть, с голоду не умрут». Бабушка очень старая, она едва волочит ноги. Юзукас запомнит только ее беспокойные глаза в глубоких глазницах да шевелящиеся губы…
Сидящие за столом все понимают, но делают вид, будто ничего не заметили: усмехаются и еще ниже склоняются над своими мисками. Разговор продолжается, а тетушка, сияя добрыми глазами, приносит Юзукасу вторую миску свекольника. Здесь никто ничего ему не запрещает, но он — глядишь — стынет где-нибудь в уголочке, чтобы не путаться под ногами. Частенько наезжают гости. Они сушат мокрые сермяги и попоны, выпрягают и снова запрягают лошадей, и он не успевает разобраться, кто среди них свой, а кто чужой и приехал, чтобы дуги купить.
Этот глухой, затерявшийся среди лесов уголок будет жить в его памяти гулом дождя, паром мокрой одежды, мягкими ударами топора, запахами пруда и ракиты, тоненьким медоточивым голосом, окликавшим его по имени, когда все вокруг умолкало. То был голос Ангеле, все допытывавшейся, кого он любит, словно такое признание ничего не значит для ребенка; странно, но он никогда не сказал ей, что ее-то он точно не любит. Какие слепцы эти взрослые! Какие глупые! Ангеле разговаривала с ним, как с недоумком, хотя он все время отталкивал ее от себя и обиженно, морща лоб, кусал губы. Господи, как она его расхваливала: и ласковый-то он, и умный!.. Как мог защищался он от этой нежности. Было в ней что-то стародавнее, никому не нужное, заплесневелое. Должно быть, все домочадцы это чувствовали, всех угнетала и стесняла эта слащавость, навязанная Ангеле. Двоюродные братья откликались на все ласковые слова, с какими обращалась к ним сестра, они угождали ей непреднамеренно и что-то скрывали. Чуткий слух Юзукаса частенько улавливал в мужских голосах сладенькие нотки Ангелиного голоса, и ему становилось противно. Владыкой в доме был ее голос — здесь царил неписаный закон, завещанный всей родне умирающим отцом, которого уважали и в деревне, и в семье: дети должны быть внимательны друг к другу, помнить, что они братья и сестры, одинаково любить отца и мать и не уподобляться кукушатам. Завет отца здесь соблюдали свято. Когда двоюродные братья и сестры собирались в родной избе, они снова превращались в детей, и на них с фотографии на стене глядел их родитель, строгий, немолодой, с волевым подбородком и густыми волосами, сделавший все, чтобы под этой крышей долго не угасал согревающий всех огонек. Ангеле этим злоупотребляла — вот чего не предвидел покойный. Не предвидел, что над всем будет довлеть мораль старой девы.
Пространным был нравственный кодекс их рода, листали его чересчур богобоязненные пальцы, и он выцвел, стерся, пожелтел, пока не был совершенно растоптан одной из воспитанниц, удравшей с каким-то прощелыгой за тридевять земель.
Юзукас изо всех сил противился заплесневелому духу дома, однако слащавый, медоточивый голос Ангеле всюду настигал его, и он стеснялся, краснел, словно он не ребенок, а какой-нибудь преступник. Этот голос выволакивал его на свет божий, о чем-то допытывался, удивлялся его упрямству и снисходил к нему лишь тогда, когда все начинали уверять, что он и впрямь очень застенчив. Потом, забившись в темный угол, Юзукас удивлялся: какие они глупые, почему они сами так делают, что он весь краснеет от стыда, а потом поражаются, охают, ахают, словно им это нравится.
Слащавый тетин голос настиг его и тогда, когда он, уже подросток, лежал в холодной больничной палате и смотрел на заиндевелое окно, за которым неистовствовала вьюга. Вдруг кто-то побарабанил по по стеклу и несколько раз позвал: «Юзулюк!» Он не успел еще узнать этот голос, а его уже окатило волной стыда. Он увидел осклабившиеся лица своих друзей: Альбинаса и Панавиокаса. Они крутились возле него, а он стоял в больничном коридоре, кутаясь в серый халат, и смотрел, как тетя Ангеле роется в своей корзинке и вытаскивает оттуда заиндевелую банку меда, пирог…
Десять верст прошла она по завьюженным полям, в самую метель, чтобы увидеть его, а он, неприветливый, противный самому себе, стоял в оцепенении и, приноравливаясь к ее тону, лопотал какие-то ласковые слова, которые даже самые близкие никогда не услышат от него, а на другом конце коридора друзья строили рожи и шипели: «Юзулюк… Юзулюк…» Это имя, как насмешка, прилепилось к нему не на год и не на два, он услышит его в коридорах школы, оно долго не отстанет от него, порождая отчаяние, стыд, возвращая назад, к поре настойчиво навязываемой любви.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: