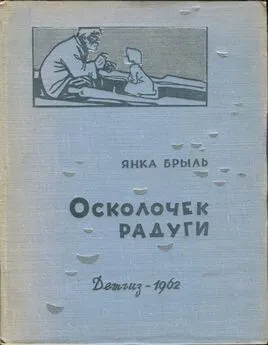Янка Брыль - Повести
- Название:Повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1979
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Янка Брыль - Повести краткое содержание
Янка Брыль — видный белорусский писатель, автор многих сборников повестей и рассказов, заслуженно пользующихся большой любовью советских читателей. Его произведении издавались на русском языке, на языках народов СССР и за рубежом.
В сборник «Повести» включены лучшие из произведений, написанных автором в разные годы: «Сиротский хлеб», «В семье», «В Заболотье светает», «На Быстрянке», «Смятение», «Нижние Байдуны».
Художественно ярко, с большой любовью к людям рассказывает автор о прошлом и настоящем белорусского народа, о самоотверженной борьбе коммунистов-подпольщиков Западной Белоруссии в буржуазной Польше, о немеркнущих подвигах белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, о восстановлении разрушенного хозяйства Белоруссии в послевоенные годы.
Повести - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Плёховский кавалерчик. Длинноногий, с маленькой головкой, сверху до пояса подвижный, как кенгуру, а ноги значительно тяжелее, иногда как онемевшие. «Буги-вуги» его бестолково нервические, будто нарочито для издевок со стороны. Куда там Сидор-топ с его подскакиванием — здесь дрыгание и кривляние сознательное. И волосатый, и с бородкой какой-то. А важности — и не говорите, потеха! Если еще не хватает чего, так только резиновой жвачки.
Как только танец окончился, Куравка вдруг поднялся, подошел к длинноногому юнцу, вежливо попросил его подойти с ним к Чиркуну и, указав на Владика, совсем серьезно сказал:
— Товарищ хочет с вами поговорить.
Я затаился в веселом ожидании. Они же, Куравка и Чиркун, сидели по обе стороны от меня и ни о чем не сговаривались — будет чистая импровизация.
— В меня вам тока один вопрос, — начал Владик так же, как и Куравка, очень уважительно, словно беря историческое интервью. — Скажите, пожалуйста, это не вы на той неделе привозили из Хлюпич продавать ушаты и лоханки? Хозяин такой же пожилой, как вы, с бородкою. И кобыла пестрая, как в одесской пожарной команде. При старом, конечно, режиме. Василь Петрович, маслобойки на возу, кажется, тоже были?
— Были, Владимир Цупронович, — совсем серьезно ответил Куравка.
Юнец стоял растерянный.
— Вы понимаете, что такое по-деревенски маслобойка? — расшевеливал его Чиркун. — Такая хреновина из сосновых клепок, в которой бьют масло.
Юнец все еще молчал. Где там у черта те Хлюпичи и что там за ушаты, лоханки и маслобойки?.. А вокруг собралась молодежь. Свои, всегда ожидающие от этих дядек чего-то веселого, а пришлые да приезжие — в недоумении, как и тот плёховский кенгуру.
Минуту этой напряженности Чиркун заполнил «иностранным языком». Это одна из двух его специальностей: Владик мог очень хорошо имитировать немого и «говорить по-иностранному». Болтать черт знает что, нисколечко не сбиваясь, не утрачивая важности тона. И теперь он начал плести что-то, очень похожее на чью-то речь. Обращался то к Куравке, то к тому танцорчику, то ко всем остальным. Куравка только кивал головою и время от времени бормотал свое, нижнебайдунское «ага» или «яволь» и «йес», принесенные с международных встреч на улицах разбитого Берлина и над Эльбой. Наконец Чиркун закончил свой монолог каким-то сложным, долгим выкрутасом и сказал Куравке более прозрачное «данкишен». А тот передал основное содержание всего сказанного коротким сообщением тому, все еще растерянному юнцу:
— Он говорит, — кивок на Чиркуна, — что вы можете быть свободны.
Если до этого в гурьбе молодежи, что окружала нас, слышался то обрывистый смешок, то сдержанная реплика, так теперь просто взорвался хохот. Смеялся, кажется, и сам тот парень.
А потом в этот шум вступили баян и «страдиварус», и все потонуло в новом танце.
Чиркун воевал еще и в первую мировую, и в гражданскую. В знак доверия он мне однажды, при панах, показывал «красноармейскую афишку» под названием «Слезное моление вши» — остроумный сатирический стишок, оружие в борьбе за солдатскую гигиену. И рассказал тогда, как во время «свободы», после Февральской революции, их, окопную братву, на временной передышке водили несколько раз в театр. А кто-то из ребят принес «аптечный» пузырек вшей, собственного урожая и одолженных, и в театре, как только погас свет, потрусил из пузырька на ладонь и тихо, осторожно посеял на меховые воротники и боа нового начальства, что с женами сидели впереди.
Владик не говорил, но мне тогда и так нетрудно было догадаться, что зачинщиком во всем этом был, скорее всего, он.
Кстати, жуликоватость передалась и сыну его, меньшому, тому Ангелочку-Ангелку-Ангелу, который на втором послевоенном году еще только оканчивал в местечке школу. Учился Ангелок не очень, больше всего от лени. И вот на всенощной перед пасхой, когда на площади перед церковью на старый лад сидели на телегах и у телег и поминали калеки-нищие, по-нашему старцы, молодой Чиркун вместе с дружками-десятиклассниками заказал старцам поминание. За плату, конечно. По двоим живым-здоровым учителям, математику и физику, более всех остальных «любимым». И дед с бабой помянули.
Видевшему, слышавшему всенощное поминание много раз нетрудно представить себе и заказанное Ангелком. На возу — посконная «буда», верх натянутый на ореховые выгнутые прутья. Коняга хрупает сено не из передка телеги, как обычно, не в оглоблях стоя, а привязанная за телегой. Между задранными оглоблями на охапке соломы сидит безногий или безрукий дед. Слепая бабуся — на возу, в устье будки. Из бабкиного слезливого раешника возьмем только начало, а может, и из середины, словом, то, что мне запомнилось с детства:
За голосистыми звонами
Да за ясными свечами,
За божественными службами…
Знаешь, ведаешь, как-то
Бог каждую душечку христианскую,
По имени назвавши…
Здесь вклинивалось конкретное — заказ десятиклассников:
Ивану Максимовичу и Алексею Ивановичу,
Душевным наставничкам нашим,
Царство небесное!..
А дед в оглоблях вторит, как шмель:
Боже, воспомни душечки умершие,
Боже, воспомни…
Немым старший Чиркун прикидывался, известно, не среди своих. Иногда это выручало нижнебайдунцев, а то так бывало и плохо…
За дровами наши ездили при панах далеко, потому что лес ближайший был молодой, казенный и не продавался. А торфу тогда копали мало. В ту зиму, которую вспоминаю, было очень много снегу. Свернешь малость с наезженной дороги — и конь проваливается, а сани с дровами как вытянуть, даже гурьбой подталкивая. И вот на Голом болоте, в пуще, встретились два обоза с дровами, наш и, кажется, хлюпичский. Столкнулись первые кони, храп в храп, и стоят — каждый возчик сам себе на уме, никто не хочет стронуться в объезд.
У наших первым ехал Куравка. Тут к нему от третьих сзади саней подошел Чиркун и, прикинувшись немым, начал ссору. Не с чужим, встречным, а со своим. Один бормочет что-то, немо канючит, размахивая руками, а другой кричит. И схватываются уже за грудки. Куравка так разъярился, что давай распрягать кобылу. Проще было бы топор с воза взять, а он распряг, схватил дугу за конец и, тряся ею над головой «немого», орал всякую несусветицу. Долго дурачились. Наши все от возов собрались, и те — от своих. Наши, известно, никто не смеялся. Хлюпичане сначала смотрели, слушали, а потом плюнули и начали объезжать, увязая в снегу и ругая наших. Куравка тогда запряг, закурили, хохоча, и поехали.
Обозами ездили не только в пущу. Из местечка на ближайшую железнодорожную станцию, за двадцать семь километров, возили зерно из купеческих «шпикнеров» (огромных амбаров), от Бейлина и Бисинкевича. Заработок был не ахти какой, однако и лучшего не было. Ездили люди победнее, и наши, и плёховские, и из других деревень. Несколько раз ездил и я, когда Андрей служил в войске, а мы с сестрою Надей хозяйствовали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: