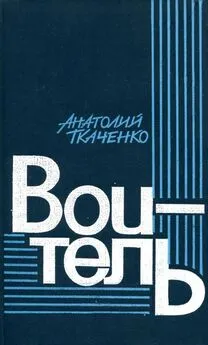Анатолий Ткаченко - Открытые берега
- Название:Открытые берега
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ткаченко - Открытые берега краткое содержание
Сборник «Открытые берега» наиболее широко представляет творчество Анатолия Ткаченко, автора книг «Берег долгой зимы», «Земля среди шторма», «Был ли ты здесь?», «Сезонница» и других.
Действие повести «Тридцать семь и три» происходит на Дальнем Востоке в туберкулезном санатории. Это произведение о преодолении страданий, о вере в жизнь, исполненное истинного оптимизма.
Герои рассказов А. Ткаченко — промысловики, сельские жители, лесники — обживают окраинные земли страны. Писатель чутко улавливает атмосферу и национальный колорит тех мест, где ему пришлось побывать, знакомит читателя с яркими, интересными людьми.
Открытые берега - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Попадались пары — «тубики» и «тубички» — в обнимку, с охапками последних цветов; двое несли в ниточной сетке грибы моховики.
Вспомнил — мне кто-то говорил — туберкулезники повышено возбудимые. Особенно в смысле пола. Еще говорят — они талантливые люди. У них повышенное горение внутри, тонус на пределе. Оттого и сочинить, и изобрести могут быстрее и оригинальнее. Не знаю, по себе пока не чувствую. Может, я не горю, а тлею еще?.. Вот только сны мне снятся и впрямь талантливые, хоть картины с них пиши.
Вышел к берегу Зеи. И здесь песок белый, хрустящий. Сел на гладкую, отшлифованную половодьями корягу — пень погибшей сосны. Вода текла, цеплялась за берег, кружилась у самых ног, и в ней трепетали маленькие рыбешки. Вода была широкая, могучая и дикая. А за нею степь, такая же пустынная, необжитая. Подумалось — когда-то в древности на этих берегах процветало Великое Бохайское царство. Где оно, куда делось?.. Лишь могильники в степи напоминают о нем.
Вон идет лейтенант Ваня, расстегнув китель, синея майкой. Мой здешний друг, близкий человек.
Если сесть в лодку и поехать вниз по течению Зеи, то через сорок километров она впадет в Амур. Там, слева от слияния, — моя родина, село Грибское. Старое казачье село. Я когда-то был казачонком — первые четыре года жизни. Почти ничего не осталось в памяти от того времени. Запомнились ощущения — запахи, цвета, звуки. Они не тревожат меня, их будто бы и нет совсем. И вдруг… пройдет мимо лошадь, обыкновенная кляча в телеге, от нее пахнет теплым потом, — и колыхнется, погорячеет во мне кровь; я пойму на мгновение, что такое счастье, а потом долго думаю: откуда оно?.. Или яркий платок в зелени травы, или звон отбиваемой косы в дымной сырости утра… Это родина живет во мне, она вошла в меня вместе с казачьей кровью, она сильнее привычек и воспитания, и не умрет, если будут у меня дети, какой-то частичкой останется в них.
— Ого, куда забрел! — толкает меня в плечо Ваня. — Топаешь, как солдат третьего года службы.
Он хочет подбодрить меня: здоров, мол, как бык, не падай духом.
— Ваня, ты тоже хочешь в газетчики?
— Не-е. На Квантун хочу. Служить. Там у меня прэлесть китайка…
— Брось, Ваня, я серьезно.
— Это другое дело. Понимаешь… если попрут из армии — в журналистику двину. Заметки сочинял в полковую печать. Поеду в Тулу, там братан в молодежной газете… Или на факультет журналистики в Москву. В общем, других талантов пока не обнаружил… Может, подождать, появится что-нибудь, а?
— Подожди, если будет время.
— Ладно. Еще не выгоняют. Как у тебя?
— Думаю.
— Совета не надо?
— Советуй.
Ваня застегнул китель на все пуговицы, поправил на голове фуражку и, озаботившись, уставился в яркую даль сонно шумящей воды. Можно было подумать, что Ваня ждет появления из реки старшего командира, перед которым надо будет вскочить и вытянуться.
Я не мешал ему думать — ведь он все равно ничего не придумает, хоть и начитался туберкулезных брошюр. Он, пожалуй, только на взгляд решительный — просто не может жить спокойно, не на виду. Я заметил, как он смигивал слезы, читая «Дети капитана Гранта», — то место, где кавалькада прощается с проводником в пампасах.
И после пневмоторакса он вернулся в палату испуганный, без лица на лице, будто получил тяжелое ранение.
— Побродим?
— Пойдем.
Опять под соснами, через ручьи, на белые песчаные холмы; вниз — в сумерки распадков, где ярко цвела листва, погибая (как на другой земле, на другой планете); мимо озера, зеленого, глубочайшего, с очень холодной, сернистой водой, в которой не жили даже гольяны и ротаны; по склону, на самый крутой холм с корявыми, зализанными ветром соснами.
Течет песок из-под ног, течет песок сам по себе, и от ветра, и от дождя; почему же холм не растекся, не исчез? Сколько лет он истекает шелестящими ручьями песка?
С вершины видно далеко и пронзительно. И как неожиданность, вдруг открывшаяся истина, — желто-рыжая, необъятная степь позади, за роскошью холмов и зеленью сосен. Река тоже тонет, исчезает в степи, намекая о себе потоками недвижного пара-тумана. Сияние, тишина, мертвенность. Лишь слышно шелестение песка — это течет время.
— Понимаешь, — говорит Ваня, — этот грузинчик пристает к ней. Будто у него в горах Кавказа дача и виноградный сад. Врет, правда?
— Врет.
— Я ей так и сказал.
— Она?
— Все равно, говорит, красиво врет.
— Что ты будешь делать?
— Поговорю. Не отстанет — нокаутирую. Он хилый, на две стороны поддут.
— Из-за бабы?
Ваня смотрит на меня, молчит, и я вижу, как он понемногу обижается, вникая в мой вопрос. Вот он уже понял его, хмыкнул, полуотвернулся. «А из-за чего же еще можно драться? — неслышно выговаривают его губы. — Ну, на войне — там война. А в мирной жизни?..» Я вдруг понимаю, что Ваня обязательно победит грузинчика, и мне становится обидно — ни за того, ни за другого, — а за себя. За теперешнего, которому надо думать не о Грете, — о себе самом, чтобы выжить, чтобы когда-нибудь потом иметь право на свою Грету. А эта пройдет, за нее подерутся Ваня и грузинчик… Я, наверное, завидую им? Вот уже хочу сказать Ване что-нибудь едкое, чтобы он не сразу понял и, понемногу обижаясь, долго кривился от моих слов.
— Ваня… — Но что-то екает у меня в груди, где сердце, сухо делается во рту. — «Ведь течет песок, — думаю я. — Течет. А мы…» — Ваня, — наконец выговариваю я, — посмотри, как здесь красиво и страшно.
— Вон кладбище.
Ваня показал вниз, сквозь сосны. На зеленом холмике виднелись кресты, крашеные обелиски, бумажные венки.
— Посмотрим?
— Давай. — Ваня спрыгнул на осыпь, медленно поехал вниз.
Кладбище было неогороженное, могилы теснились одна к другой, словно не хватало места или так (решили живые) веселее покойникам. Трава еще не завяла, но она лишь издали веселила холм. Песок поработал и здесь.
Размыл насыпи, перекосил кресты, звезды, железные тумбы. Ветер порвал венки, дождь выбелил черные лепты.
Нет, не старое это кладбище. Ему столько же лет, сколько санаторию. Здесь похоронены умершие от туберкулеза. И родные, приехав, чтобы проститься, едва ли соберутся приехать в другой раз: и далеко, и накладно, и некогда. Мертвые подождут, мертвые долго могут ждать. Они уже не болеют, вместе с ними умерли бактерии Коха, источившие их. А жизнь течет, как этот белый песок, и надо жить, торопиться, успевать, надо заботиться о ближних, живых. Могилы все равно погибают, даже самые вечные.
И я это понимаю. Но почему мне жаль и могил, брошенных, и тех, кто к ним никогда не приедет?
Лейтенант Ваня стоит возле мраморной плиты, — единственной здесь и потому кажущейся сверхроскошной, — подзывает меня. На плите высечены крупные иероглифы, а внизу мелко по-русски: «Госпожа Сейси Харукава».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: