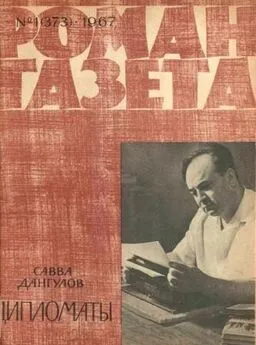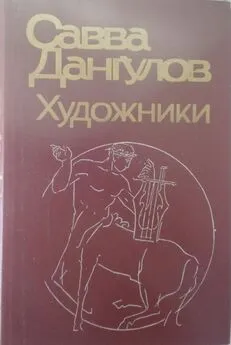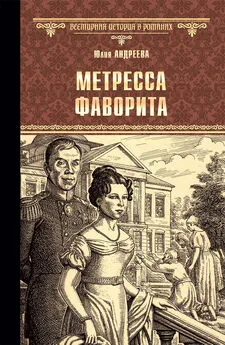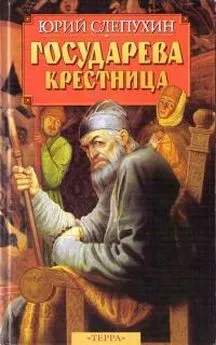Савва Дангулов - Государева почта + Заутреня в Рапалло
- Название:Государева почта + Заутреня в Рапалло
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1987
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Савва Дангулов - Государева почта + Заутреня в Рапалло краткое содержание
В двух романах «Государева почта» и «Заутреня в Рапалло», составивших эту книгу, известный прозаик Савва Дангулов верен сквозной, ведущей теме своего творчества.
Он пишет о становлении советской дипломатии, о первых шагах, трудностях на ее пути и о значительных успехах на международной арене, о представителях ленинской миролюбивой политики Чичерине, Воровском, Красине, Литвинове.
С этими прекрасными интеллигентными людьми, истинными большевиками встретится читатель на страницах книги. И познакомится с героями, созданными авторским воображением, молодыми дипломатами Страны Советов.
Государева почта + Заутреня в Рапалло - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Взглянешь на него и скажешь — франт. Едва ли не такой же, как Буллит. На самом деле все по–иному, все не так. Эта франтоватость будто призвана им, чтобы скрыть характер… Где–то тут противоборство, где–то тут сшиблись в нем силы–антагонисты.
Итак, противоборство. Тот, кто был в Сан — Франциско, помнит особый блеск солнца, встающего над морем, его отсвет на белостенных особняках. Стеффенс родился в безбедном доме, и, казалось, на роду ему была написана тишь да благодать сан–францисские. Если бы родителям привиделась хотя бы отдаленно жизнь их чада, как она сложилась на самом деле, их белостенное обиталище завалилось бы. Нельзя сказать, что Стеффенс разделял взгляды отца, которые тот исповедовал, но в свои ранние годы он не объявлял отцу войны.
Глаза на мир ему открыл нью–йоркский вечерний листок, репортером которого он стал. Сферой Стеффенса в газете был репортаж из банка. Нет, не столько нападение на инкассаторов, взлом банковских сейфов, похищение кассиров, сколько иное — финансист, его судьба, его поединок с ему подобными, его возвышение и его банкротство, явное и мнимое, его неусыпная вахта по охране и приумножению капитала, а следовательно, всесильная авантюра… Надо же понимать, что это был конец прошлого века, ознаменованный появлением некоего подобия астероида, до этого неизвестного — Нью — Йорк, мир Нью — Йорка. Его дебри и его тайны, его сизые сумерки и его розовые туманы, от которых голова шла кругом, его несметные сокровища и столь же фантастическая нищета, его преступления, изумившие человечество.
Невелика птаха репортер, а как высоко и она может взлететь!.. «Даю двести строк в номер, сдам в набор на рассвете!» Легко сказать: сдам в набор! А на деле? Окно его квартирки на Гринвич Вилидж выходит на большой двор, населенный беднотой. Когда окно открыто, слышны пушечные удары мяча о кирпичную стену дома да стонущий плач молодой женщины, взывающей к милосердию пьяного мужа. Но сейчас полночь и во дворе тихо. Только откуда–то из глубины двора, быть может, из каморки в цокольном этаже, а возможно, из котельной, упрятанной еще ниже, доносится голос флейты — это привычный звук, он возникает с приходом старика сицилийца, который играет в итальянском ресторане напротив. Флейта не мешает беседе Стеффенса, наоборот, она даже воодушевляет. Как заметил Стеффенс, красное тосканское и, разумеется, флейта способны развязать язык и столь казенному существу, как банковский клерк. Даже если это, как нынче, клерк, собравшийся подать в отставку, для которого все мосты сожжены. Он, этот старый клерк, самим богом уготован, чтобы пустить многопалубный корабль своего неблагодарного шефа ко дну, если за корабль принять махину алабамского банка… Стеффенс в такой беседе проявляет высокое умение вести диалог. Конечно же, свою роль призваны сыграть и настойчивость интервьюера, и его смелость, но бесценно и иное: обаяние, живость ума, способность одновременно и поощрить собеседника к разговору, и воодушевить, и в чем–то остеречь. Но вот беседа состоялась, и старый «форд», разгребая предрассветную мглу ручищами зажженных фар, мчится вдоль пляжей Стэйтен Айленд, полоненных тьмой, чтобы получасом позже ворваться в редакционный двор. «Есть двести строк! — кричит Стеффенс победно, потрясая записной книжкой. — Вот они!» Конечно, соблазнительно сказать «Вот они!», но эти двести строк надо еще выстроить… И происходит то, что было уже не однажды: Стеффенс пододвигает к наборной кассе столик корректоров, только что закончивших ночную вахту, пододвигает так близко, что в поле света лампы оказываются и наборщик, и репортер… Стеффенс пишет, он уже пишет, однако почему изменила ему рука, чей это почерк? Стеффенса? Буквы стали неожиданно крупными и не в такой мере слитными — у рукописи вид печатного текста… Оказывается, у Стеффенса два почерка: «для себя» и «для наборщика»… Никакой машинки, прямо в руки наборщику, он нет–нет да и взглянет на Стеффенса, точно поторопит: «Еще тридцать строк, и можно заверстывать!» Брови старого рабочего, словно свитые из твердой проволоки, ощетинились, не иначе пламя стеффенсовского репортажа прошибло и луженое сердце наборщика. Рассвет уже поджег тусклые от свинцовой пыли окна наборной, когда полоса пошла под пресс. А потом каморка выпускающего с видом на побережье, смятенный сон на диване, обшитом холодной клеенкой, и голоса газетчиков, поднявшиеся от самой реки: «Стеффене предрекает крах алабамского банка — новый репортаж первого репортера Америки!»
Стеффенса увлекла стихия его новой профессии. Он хотел быть репортером и никем больше. Профессия требовала расчета и храбрости. И то и другое у него было. Напасть на след аферы, сотворив нечто сенсационное, вынести эту сенсацию на страницы газеты, вызвав у города и своих коллег вздох изумления, вздох восторга, ради этого стоит жить! И Стеффенс жил ради этого. Только ради этого! Нельзя сказать, что удары Стеффенса сражали наповал, но испуг был, даже немалый… «Нет–нет, серьезно, как он его!.. Если не пуля в сердце, то обморок… Храбр этот мальчик из Сан — Франциско, ничего не скажешь!.. И Стеффенса это радовало, почти делало счастливым — какого мужчину не порадует весело–восторженное «храбр», будь это сказано мужчиной или тем более женщиной, кстати, женщины были… Этот небольшой человек с челкой, которая, завившись, превращалась в кок, пользовался успехом, какой при его внешних данных был почти невероятен. Восторженно–благоговейное «Стеф, ты самый красивый!» сопутствовало ему. Нельзя сказать, что он был настолько лишен юмора, чтобы поверить этому, но признание женщин было ему приятно. Уже ради одного этого следовало обречь себя на испытания, какие он принял вместе с именем первого репортера Америки. Но были и сомнения. Хотелось уединиться, одну за другой пересчитать все истории, которые он предал гласности. Девять историй, девять! И что? Из тех девяти пуль, которые выпустил Стеффенс, попала хотя бы одна в цель? Все попали! И… сколько поверженных? Все живы, все чувствуют себя прекрасно, даже, можно сказать, прибавили в весе. Стеф мысленно оглядел себя: чудак! Да, да, чудак–одиночка!.. Одиночка ли? Но, быть может, Стеф не один? Есть же чудаки в Америке и кроме Стеффенса? Чудаки из породы правдоискателей? Есть они?
И Стеф вспомнил далекий Портланд, сумерки делового клуба, где собирались городские тузы. У каждого из них и в зале банкетном, и в карточном, и в концертном было свое место. Было оно и у портландского дельца Чарльза Джерома Рида (погодите, погодите, да не родитель ли это Джона Сайлеса Рида, поэта и порядочного смутьяна, исколесившего земной шар в поисках революций и вызвавшего к жизни столь неординарную книгу, как «Восставшая Мексика»? Родитель, разумеется, но сейчас разговор не об этом). Итак, такое место было и у Чарльза Джерома Рида. В ряду необыкновенных личных доблестей, таких, как жажда подвига и рыцарственность, он обладал достоинством, с которого истинный человек начинается, — бескорыстием. Подобные люди, разумеется, были повсюду в Америке, при этом и среди дельцов, их–то и предполагал рекрутировать в свою армию Стеф.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Александр Прозоров - Царская дыба [= Государева дыба]](/books/126023/aleksandr-prozorov-carskaya-dyba-gosudareva-dyb.webp)