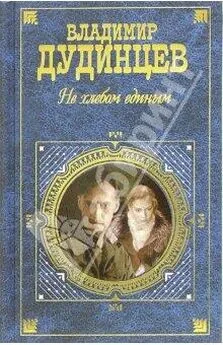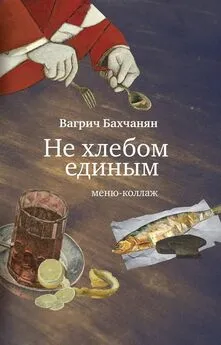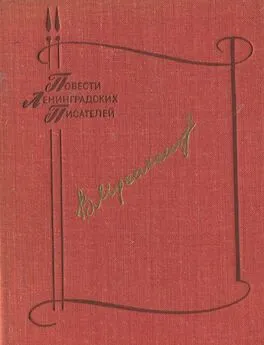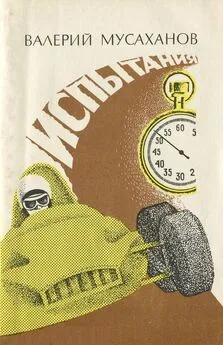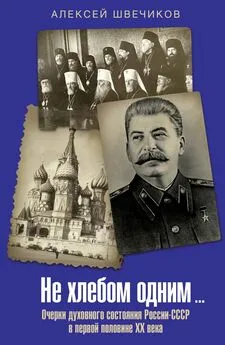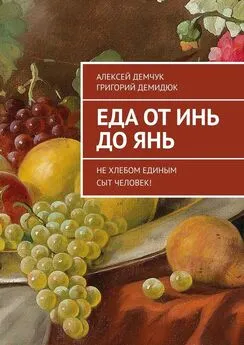Валерий Мусаханов - И хлебом испытаний…
- Название:И хлебом испытаний…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00264-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Мусаханов - И хлебом испытаний… краткое содержание
И хлебом испытаний… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я выпрямил спину, зрение обрело обыденную ясность — роскошная передняя и лицо сорокалетней роскошной женщины, уже тронутое увяданием, и рука с острыми, крашенными перламутром ногтями.
«И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный», — строки эти неожиданно всплыли в памяти, растравляя иронической грустью, в которой тоже было нечто позерское и неискреннее, а вслух я повторил:
— Ладно, можешь не опасаться, — и пошел по широкому коридору.
Человек редко соответствует судьбе. Афоризм: каждый достоин своей участи — верен лишь в моральном плане. Обычно человек больше своей судьбы, но в жизни возникает столько неблагоприятных и часто скрытых, не зависящих от воли человека обстоятельств, что он не только не в состоянии их преодолеть, но даже не в силах догадаться об их существовании. Вы ничего не узнаете и не сможете противопоставить тому, что при обсуждении вашего назначения (ну, какое там место снится вам по ночам?) некто, ни разу не видевший вас и листающий ваше личное дело, с не допускающей возражений небрежностью вполголоса скажет: «Молод еще», — и услужливая рука заберет папку и подсунет другую. И вы останетесь на своей прежней работе, которую уже переросли и на которой вас последнее время удручает почти постоянное ощущение тесноты; вы останетесь с этим ощущением, по так и не узнаете причин остановки карьеры. Но это не самое страшное, что может приключиться с человеком.
Вы — хороший токарь, выдающийся мастер настольного тенниса или приличный врач и довольны своей работой и своей жизнью. Но вот в один прекрасный день к вам подходит кто-нибудь и со значительным лицом сообщает, что нужно поговорить. Вы останавливаете станок, кладете ракетку на зеленый теннисный стол или велите очередному сунувшемуся в кабинет пациенту подождать и узнаете, что «есть мнение» выдвинуть вас на другую работу — более трудную, ответственную, но более почетную. Как всякий нормальный человек, совладав с первым смущением, вы начинаете отнекиваться, потому что любите свою работу и никогда не мечтали о другой, но вы чувствуете себя польщенным неожиданным предложением и это чувство возрастает по мере того, как ваши ссылки на недостаточность знаний и опасения не справиться все энергичнее отвергаются. И в конце концов (в чьем-то обширном кабинете, при повторной беседе) вы даете себя уговорить и меняете свою работу и свое положение. Перемена эта, казалось бы, должна укрупнить ваш характер, заставить устремиться вслед за судьбой, поднимающей на гребень, ко, увы, не в нашей воле стать умнее и способнее. И если вам не хватит этих качеств, то вы сделаете то, что в ваших вилах, — измените самооценку: «Если меня выдвинули, то, следовательно, я умный и способный человек». Я как-то само собой забудется, что новое положение и связанные с ним привилегии достались вам без борьбы, которая одна только формирует и укрупняет личность, что положение и привилегии принес лишь слепой случай, воля людей, которым для чего-то выгодно, чтобы человек среднего ума и ваших анкетных данных занял определенное положение. И тогда с вами случится самое страшное — вы окажетесь неизмеримо меньше своей судьбы.
Я не знал, в каких отношениях находился мой почтеннейший батюшка со своей судьбой, испытавшей его всеми ветрами и ливнями времени. Мне были известны лишь внешние факты его биографии и некоторые, относившиеся лично ко мне, поступки, но я не знал этого человека. Хотя понимал, что он — Щербаков-старший и ему принадлежит приоритет на пороки и достоинства. Но какие пороки и достоинства я унаследовал от него, а какие приобрел сам, я не знал. И не было во мне ненависти к нему. Та давняя детская ненависть за тупое принуждение писать и есть только правой рукой, измучившее меня до войны, потому что я уродился левшой, — давно позабылась. А прочие военные и уже послевоенные счеты между нами были посерьезнее банальной родственной ненависти. Отец чем-то притягивал меня, интересовал как средство расшифровать себя. И, входя в просторную, высокую, скупо меблированную комнату, я испытывал всегдашнее смешанное чувство настороженности, враждебного любопытства и сосущей тоски.
Я вошел в комнату, прошагал по светлому лоснящемуся паркету к высоким окнам и остановился против дверей в анфиладу. Надменно вздернув голову, цокая каблуками, моя мачеха прошла во внутренние комнаты. Я чуть откинул шелковистую штору.
За стеклами в тускло-желтом свете фонарей по-прежнему трассировали мокрые снежинки, в небе клубилась фиолетовая мгла. Я отпустил штору и оглядел комнату.
На фоне жемчужных обоев простая светлая мебель смотрелась прекрасно, а свободная расстановка кресел, овального стола и дивана придавала просторной комнате не слишком назойливую парадность. Две хорошие старые акварели на стене против дивана изображали задумчивые парковые пейзажи среднерусской полосы, скромная люстра с лампами-свечками давала ровный и мягкий свет. У самых дверей в анфиладу, повернутое к окну, стояло кожаное массивное кресло с высокой спинкой и подножкой — такие кресса в России принято почему-то называть вольтеровскими, — к подлокотнику был прикреплен подвижный пюпитр красного дерева, на котором лежала стопа хорошей бумаги и толстый «паркер» с золотым пером, — мой почтеннейший батюшка писал мемуары.
Наконец где-то в отдалении послышались медленные, но легкие шаги, и я подошел к дверям.
Какое-то серебристое облако появилось в конце четырехкомнатной анфилады, оно медленным, но еще довольно легким шагом приближалось ко мне. Я смотрел на гладко зачесанные назад волосы цвета самолетного дюраля, на длинное сухое лицо с глубоко посаженными темными цепкими глазами, на вертикальные морщины от скул к подбородку. Он был выше меня почти на целую голову; великолепный серебристо-серый костюм четко облегал подтянутую фигуру, свежая крахмальная рубашка отливала голубизной, и единственной домашней вольностью был слегка распущенный узел синего с серебряной искрой галстука и расстегнутая верхняя пуговка воротника. Я посторонился, мой батюшка вошел в комнату и протянул руку:
— Ну, здравствуй. С сорокалетием тебя. — Низкий, богатый оттенками голос проповедника вибрировал искренним доброжелательством, пожатие сухой руки было энергичным.
— Спасибо, — сказал я и дернул головой в светском поклоне, совсем как воспитанный мальчик.
— Садись, — плавным жестом он указал на диван, подошел к креслу, взял с пюпитра авторучку и аккуратно закрыл колпачком перо. — Чернила подсыхают, а потом не расписать сразу, — он положил ручку на место, чуть повысив голос, сказал в дверь — Инна, сообрази нам что-нибудь, — и сел в кресло у противоположного края стола.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: