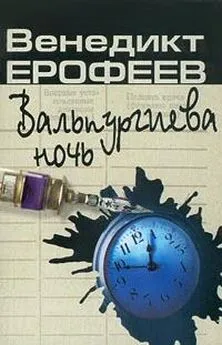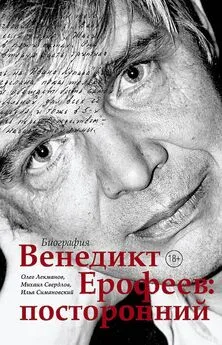Венедикт Ерофеев - Глазами эксцентрика
- Название:Глазами эксцентрика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Нью-Йорк: Серебрянный век
- Год:1982
- ISBN:0-940294-05-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Венедикт Ерофеев - Глазами эксцентрика краткое содержание
Сколько бы книг ни написал Венедикт Ерофеев, это всегда будет одна книга. Книга алкогольной свободы и интеллектуального изыска. Историко-литературные изобретения Венички, как выдумки Архипа Куинджи в живописи — не в разнообразии, а в углублении. Поэтому вдохновленные Ерофеевым ”Страсти” — не критический опыт о шедевре ”Москва-Петушки”, но благодарная дань поклонников, романс признания, пафос единомыслия. Знак восхищения — не конкретной книгой, а явлением русской литературы по имени ”Веничка Ерофеев”.
Глазами эксцентрика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А потом я повалился на канапе и продолжал.
”Бог мой, Вечность моя, отчего Ты дал столько печали мне?” ’Томится моя душа. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без сна”. У обскуранта — и вдруг томится душа? ”Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да.
Но жалость?” ”3везды жалеют ли? Мать жалеет, и да будет она выше звезд”. ’Трубы люди, ужасающе грубы — и даже по этому одному, или главным образом поэтому боль в жизни, столько боли”. ”О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую долю раздражения!”
Нет, с этим ”душегубом” очень даже есть о чем говорить, мне давно не попадалось существо, с которым до такой степени было бы о чем говорить.
”Только горе открывает нам великое и святое”. ”Боль, всепредметная, беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние — иногда до того тяжелое, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, ”состав не выдержит”. ”Я не хочу истины, я хочу покоя”. ”О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?”
”Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я о собственном смысле? Никогда. Грусть — моя вечная гостья”. ”Смех никого не может убить, смех придавить только может”. ”Терпение одолеет всякий смех”. ”Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех — от Калибана, а не от Ариэля”.
”Он плакал. И только слезам он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа”. ”Христос — слезы человечества”. ”Боже вечный, стой около меня, никогда не отходи”.
(Вот-вот! Маресьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот — говорит то самое. ”Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения”. Шопенгауэр и София Гордо, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, и душа восставала, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она ни имела дела — с парадоксом или с прописью):
”Русское хвастовство и русская лень, собиравшиеся перевернуть мир, — вот революция”. ”Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины”. ’Революция — когда человек преображается в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом”. ”Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция”.
И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах:
”И пишут, и пишут историю этой буффонады. И мемуары и всякие павлиньи перья. И Некрасов с русскими женщинами”.
И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, ”страдалец”, царям земли напомнить о Христе):
”Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Баклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в двадцати томах, не наш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем надо дать под зад?” ”Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку-то надо было драть за уши, да Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что никаких разговоров с ним нельзя было водить? Что просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять?” (Как это может страдалец — вонять?)
И о графе Толстом:
”В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю их души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает большее движение души, чем их ”философия” и публицистика”. Эта "раздавленная собака”, пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой ”раздавленности”, напротив, сами они весьма и весьма ”давили”.
И о Максиме Горьком, по-моему, все-таки о Максиме Горьком:
”Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водице какую-то самолюбивую рыбку. Но больше сомневается, и насадка плохая, и крючок и т. д. Но не унывает и опять закидывает”.
И об основателе Политического пустозвонства в России” Александре Герцене.
И даже о Николае Гоголе, предмете его же поклонения:
”За всю его жизнь — ни одного высокого и натурального помысла — только бы накопить денежку или прочитать кому-нибудь рацею. Он еще будучи гимназистом, матери в письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет”.
Вот на этом ползущем гаде я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней и бренная — тоже уснула.

И когда духовная проснулась, бренная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно.
Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел ”Боже, царя храни”, пропел нечисто и неумело, не вложил в это больше сердца и натуральности, чем все подданные российской империи вместе взятые со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он поглядывал то на оценщика-иностранца, то на ”демона, боязливо хватающегося за крест”, то на Абаддона, только что выползшего из своей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абаддону.
А я все лежал на канапе, переминаясь с ноги на ногу, и наблюдал.)
Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.
Потом поежился. Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицу ”кавалерственную даму” Веру Фигнер (она и глазом не повела), а всем остальным воздал по подзатыльнику. (”О, шельма”, — сказал я, путаясь в восторгах.)
А он между тем, влепив последний подзатыльник, нахмурился и вошел ко мне в избу с кучей старинных монет в кармане. Покуда он вынимал, вертел в руках и дул на каждую монету, я тихо приподнялся с канапе и шепотом спросил:
— Неужели это интересно: дуть на каждую монету?
А он, ни слова не говоря, сказал мне:
— Чертовски интересно, попробуй-ка сам. А почему ты дрыхнешь? Тебе скверно или ты всю ночь путался с б....ми?
— Путался, и даже с тремя. Мне дали вчера их почитать, потому что мне было скверно. ”Книга, которую дали читать...” и так далее. Нет, сегодня мне чуть получше. А вот вчера мне было плохо до того,
что делегаты горсовета, которые на меня глядели, посыпали головы пеплом, раздирали одежды и перепоясывались вретищем. А старухам, что на меня глядели, давали нюхать...
Меня прорвало, я на память и рассказал свой вчерашний день, от пистолета до ползучего гада. И тут он пришелся мне уже совсем по вкусу, мой гость — нумизмат: его прорвало тоже. Он наговорил мне общих мест о кощунстве самоистребления, потом что-то о душах, ”сплетенных из грязи, нежности и грусти”, и о ”стыдливых натурах, обращающих в веселый фарс свои глубокие надсады”, о Меривале и Гринберге, об Амвросии Оптинском, о тайных пафосах еврея и половых загадках Гоголя и Бог весть еще о чем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: