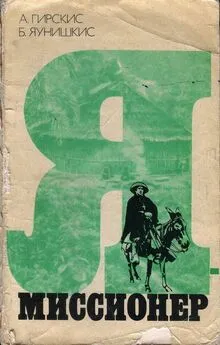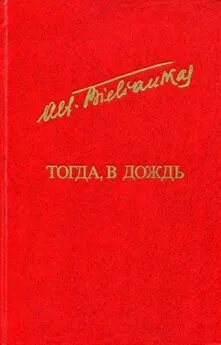Альфонсас Беляускас - Спокойные времена [Ramūs laikai]
- Название:Спокойные времена [Ramūs laikai]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альфонсас Беляускас - Спокойные времена [Ramūs laikai] краткое содержание
В центре внимания автора вопросы нравственности, совести, долга; он активен в своем неприятии и резком осуждении тех, кого бездуховность, потребительство, чуждые влияния неизбежно приводят к внутреннему краху и гибели.
Спокойные времена [Ramūs laikai] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И то, что отец, который был не прочь (хоть и делал вид, будто его к тому принудили) поговорить о былых, таких нелегких военных, послевоенных или предвоенных годах, когда он, прыщавый гимназистик, щелкал в пинг-понг, проникнув сквозь плохо закрытое окно университетской библиотеки, таскал паркетные планки на фабрике и тайком почитывал Маркса, сейчас семенил рядом какой-то потрепанный, словно стал меньше ростом — никакой значительности (a обещал после «церемониала вручения» самолично сводить дочь в «Нерингу» и угостить шампанским; впервые в жизни!»), — ей представилось неким вызовом судьбы, неким приговором, чему-то, что для отца было всего важнее. Ведь могла эта капитанша (она и Эме не понравилась; возможно, из-за той бесцеремонности, с которой она подмазывала губы) вручить ей паспорт и при отце, что ничуть не унизило бы Эму, даже, напротив, возвысило бы ее в отцовских глазах, могла и произнести что-нибудь подобающее, Эма ничуть не обиделась бы, она поняла бы и даже, возможно, ответила бы ей, но она ничего не сказала, и Эма ничего не ответила; видно, той это было до лампочки, не столь уж важно все это было и Эме. Было только обидно, когда отец через пару шагов остановился, достал троллейбусный талончик и быстрыми, испуганными шажками потопал дальше, — он спешил в редакцию, день остался без праздника. Как и прочие дни уже взрослойЭмы, дни, которые довели ее до этой вот ночи… А майор просит…
Привет! Передайте, вы слышите, привет!..
Отееец…
Не Единорог, не Гайлюс (при чем тут Гайлюс, при чем?), не кто-либо еще возникает передо мной, когда мы втроем шлепаем по сырой промозглой ночной улице, — а он, тот, кого я хотела бы забыть, словно он и не существовал на свете, особенно после того, как… Хочу и не могу, не могу, не в силах, потому что даже сейчас, когда мы чудом избежали «суток», мне вспомнился тот раз, когда мы с нимпобывали здесь (не именно в этой милиции, а в милиции вообще), — даже сейчас, когда бездомной кошкой (его, между прочим, выражение, отцовское) бредешь по мглистой улице вблизи реки невесть куда и зачем; даже когда он далеко, независимо от моей воли, против моего желания, он всегда со мной, а то и во мне (и это страшно) — как родимое пятно, как форма носа, цвет глаз или запах кожи, как воздух, которым мы оба дышим; и даже в той комнате, пропитанной разными ночными запахами милицейской комнате, откуда мы, опустив головы, с таким чувством, будто как-то слишком дешево продали своих чуваков, и совершенно трезвые выплыли одна за другой (я, разумеется, замыкала это траурное шествие), даже там я, словно еще одного милиционера — да-да, словно еще одного майора! — чувствовала его, своего отца; даже в этой пронизанной холодом ночи — грозной и трепетной, в каждом шаге своем и каждом вздохе ощущаю я его, человека, которого должна забыть, как свое прошлое, — ведь я поклялась себе забыть на все времена, изгнать из памяти, из мыслей, забыть навсегда, как забывается учитель младших классов, который когда-то оставил тебя после уроков и даже, может быть, трепанул за ухо (хотя это запрещено), а потом полностью испарился с твоей жизненной орбиты (хотя ты, возможно, и встречаешь его на улице), или как чесотка, от которой спасу не было: прошла, и нет ее, кончилась, сгинула, нечего и вспоминать всякую пакость…
…Налетел он внезапно, как смерч, вернувшись под утро (а ведь уезжал в район да на целых пять дней; маманя все еще валялась в больничке), будто нюхом учуял за три сотни километров, что у нас в доме веселенькая фиеста; вообще-то она удалась. Главное, устроила ее я одна, без всякой посторонней помощи; это были самые веселые — три моихдня (и, конечно, ночи), когда я, точно заправская хозяйка (засунув новехонький паспортишко куда-то в книги), принимала своих гостей, в том числе и нескольких одноклассников; мне было весело, и я знала, что для человека нет ничего важнее его настроения, по крайней мере для меня и моих друзей, — хотя согласна, что, пожалуй, следовало бы пощадить отцовскую винную коллекцию, и тем более не стоило заливать бельгийский ковер, которым так гордилась мамаша (когда ее что-то еще интересовало кроме болезней), и, пожалуй, нечего было засыпать пеплом отцовские книги и вообще соваться в его библиотеку, ключ от которой имелся только у мамани; но я была за хозяйку, мне было весело, и я отперла все двери и позволила своему народцу быть где ему хотелось, иначе — что за дружба? Некоторым во что бы ни стало требовался диван — хотелось соснуть часок-другой после напряженного ночного бдения, а то и пообжиматься подальше от остальных; и все без исключения требовали, чтобы при свечах; и мы натыкали их прямо на копры, и скакали вокруг, как самые отпетые язычники; свечи трепетали, гасли, напоминая, что радость быстротечна и зыбка, «жизнь коротка, хватай за бока», сейчас это уже все равно — все давным-давно в прошлом; перекрывая все голоса, гремел биг-бит, подобно горному обвалу или извержению Везувия сотрясая всю нашу сонную и благопристойную улочку; с великолепным грохотом и треском, точно под космический ураган, извергались эти несравненные звуки через все щели и дыры в оконной замазке из моей новейшей «Вильмы», подаренной предками по случаю все того же шестнадцатилетия; вместе с клубами табачного дыма, нависшими над тишайшей улочкой во всем Вильнюсе, над липами, кленами и каштанами, из настежь распахнутых окоп и балконных дверей (балконы не какие-нибудь — итальянские, мамина гордость) весьма темпераментно вылетали окурки (красновато светясь, как искусственные спутники Земли), бумажки, пробки, бутылки; одна чуть не тюкнулась в «Волгу», из которой, явившись на целые сутки раньше, выбирался мой досточтимый…
Что тогда делалось, боженька мой! И не сразу, не вмиг (было около четырех утра, и оставалось только удивляться, как стремительно, почуяв, что запахло жареным, скатились по деревянной лестнице прокуренные барышни и осоловевшие, не на шутку испуганные кавалеры, оставив на бельгийском ковре бесстыдно опустошенную отцовскую коллекцию сухих вин, пирамиды окурков, горы огрызков), а позднее, уже вечером, когда соседи (Ваготиха, кому больше) проинструктировали отца, осветив, что здесь происходило в течение минувших трех суток; а, собственно говоря, что же происходило? Собрались люди молодые, шустрые, девочки, мальчики, повеселились; а почему бы и нет? Что мы, трухлявые старикашки, что ли?
«Это и есть ваша деятельность? — отец показал на ковер, в самом центре которого, оттеняя его небесно-голубую бельгийскую лазурь, змеился длинный, уже побуревший желобок… — Кто тебе разрешил?..»
«А что тут такого?..»
Отец рассвирепел; маманя болела, между прочим, тяжело, уже который раз в этом году, врачи мямлили что-то невнятное, и отец это знал; потому, видно, и вернулся пораньше и застал нашу фиесту. И нервничал явно из-за того же — из-за мамани. — Да ты хоть понимаешь, что делаешь, Эма? Как ведешь себя! Соображаешь хоть что-нибудь? Вместо того чтобы сходить в больницу, навестить, созвала всю эту шайку бездельников!.. Соображаешь?!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Альфонсас Беляускас - Спокойные времена [Ramūs laikai]](/books/1082774/alfonsas-belyauskas-spokojnye-vremena-ramus-laika.webp)

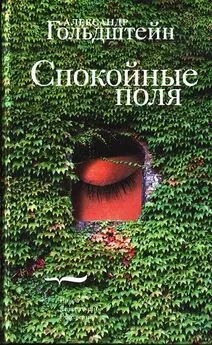

![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)