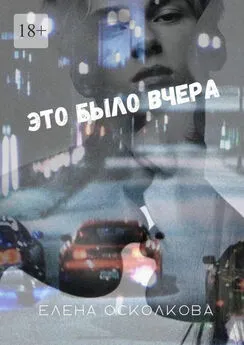Сергей Баруздин - То, что было вчера
- Название:То, что было вчера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1975
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Баруздин - То, что было вчера краткое содержание
То, что было вчера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Неизвестно, почему Вячеслав Алексеевич пошел бродить сейчас по городу. Пошел просто так, хотя собирался поспать после ночных перипетий в больнице, а ночь нынче была напряженной — три операции подряд и потом еще в родильном отделении — кесарево сечение. Но Вячеславу Алексеевичу не спалось, и он вышел в город. В конце концов, на дежурство не скоро, вечером успеет отдохнуть.
И не пожалел, что поступил так.
Вячеслав Алексеевич потолкался на рынке, съел там с удовольствием пару пирожков с капустой, а потом спустился к реке и долго смотрел на воду. Мерное течение воды успокаивало, вызывало какие-то смутные воспоминания…
Одни, говорят, любят смотреть на огонь, ибо он, огонь, вызывает у них движение мысли и жажду деятельности. Вячеслав Алексеевич где-то читал об этом, кажется, у Горького. Другие смотрят на небо, звездное или солнечное, и оно вызывает у них стремление понять непонятное и познать свое собственное «я», а у третьих это «я», как фотоснимок, проявляется при дождливой, пасмурной погоде, и тихий спокойный дождь зовет их куда-то. Да мало ли какие тут еще варианты есть. Все это, конечно, то, что называется «чудинкой», то есть тягой к необычному и осуждаемому, может быть, другими, но такие «чудинки» свойственны всем людям, и у Вячеслава Алексеевича такой «чудинкой» была вода. Вода в реке и в море, иногда в малом ручье или даже текущая из-под крана, но именно текущая, а не стоячая. Что-то было в этом с детства, очень далекого, связанного, может быть, вот с этой рекой, но не такой обмелевшей и заросшей, как сейчас, и с украинскими речками вдоль дубрав, куда он попал в войну, и еще с тем, как его спасали после первого ранения: был таз, из которого струйкой текла вода, а потом — кровь, льющаяся так же, струйкой, в прозрачную колбу, а из нее ему в руку, и она текла медленно-медленно, как сейчас талые воды текут по льду не вскрывшейся еще реки…
О чем это он думал сейчас? Да. Вот Оганесян, например. Ведь он совсем уже не молод и, как сам признается, поотстал в медицине, но сколько в этом человеке доброй энергии и бескорыстия. Потому он и встретил так Вячеслава Алексеевича, заставил его и здесь заниматься хоть немного наукой, а теперь вот ругает за отказ от докторской.
— Я-то лично, как вы понимаете, дорогой, никак не заинтересован в этом, — говорил Акоп Христофорович. — Ну, что? Защитите вы докторскую, и заберут у меня вас, заберут лучшего хирурга, и с чем я останусь? Но мне науку жалко, вас, наконец, жалко! Нельзя так! А мне все равно доживать здесь, крутиться и вот историю для потомков написать, как вы посоветовали, успеть бы.
Казалось, люди, работавшие с ним в Москве, в институте и клинике, такие же. Тоже не очень молоды, хотя и моложе Акопа Христофоровича, тоже с кандидатскими довоенных лет, которые утешили и успокоили их на все многие десятилетия вперед, вплоть до пенсии. Они так же, как и он сейчас, резали аппендиксы и делали другие простейшие операции, лечили дедовскими методами старух и стариков, и им никто не мешал. За год они выдавали одну, в лучшем случае, две научные работы на весь институт, и Вячеслав Алексеевич поначалу вовсе не посягал на их тихую, обычную для десятков подобных медицинских учреждений, жизнь. Пусть так и будет для них, но себе он не мог позволить этого. Он занялся специально врожденными пороками сердца у детей. Новый вид анастомоза он испытывал именно тогда. И все шло хорошо, и все его поздравляли, пока он не разработал постоянный зонд в сердце. Уже потом, и не без посторонней подсказки, он решил, что это может стать темой докторской. А так он просто занимался делом, и его радовало, что прежние, казалось бы, обреченные больные вставали на ноги и клиника теперь выдавала уже по пять-шесть научных работ в год.
Но вот тут-то все и началось. Сначала исподволь, как бы в порядке туманных намеков и замечаний, а потом и в открытую. И если прежде смертный случай у того или иного врача, да и у него самого, не являлся чем-то чрезвычайным, ибо смерть — всегда есть смерть, то здесь вокруг его порой неудачных операций начали шушукаться. Вот вам, дескать, и новый метод. То ли это была зависть, то ли чувство самосохранения, трудно сказать, особенно когда вокруг тебя одни женщины и все немолодые, и заведующая клиникой — женщина, обиженная жизнью и судьбой. Кто-то намекал ему, что боятся его докторской именно поэтому. Если он защитит диссертацию, то уж, конечно, станет заведующим. Но, право, Вячеслав Алексеевич никогда не стремился к этому. Более того, он привык с уважением относиться к старшим, вне зависимости от их возраста и достоинств, так же он относился и к заведующей. Но понять ее логику он не мог. И не хотел. На него посыпались анонимки, где говорилось, что кардиохирург в последнее время, помимо всего, начал злоупотреблять спиртными напитками, что кто-то где-то видел его пьяным, что и после операции он иногда позволяет себе пить чистый спирт.
Вячеслава Алексеевича пытались вызвать на откровенный разговор и в институте, где он должен был защищать диссертацию, и в министерстве, где разводили руками, явно сочувствуя, но он проявил характер. Он отказался от диссертации и попросил направить его на работу в районную больницу, сюда, где он когда-то родился и куда не раз собирался съездить после войны. Новый министр, сам хирург, отлично знавший Кириллова, тоже не смог отговорить его.
Здесь, в больнице, ему было просто. Люди были заняты делом и судили друг о друге по делам, и не было ни зависти, ни подсиживаний, и к Вячеславу Алексеевичу относились как ко всем, может быть, лишь с чуть большим вниманием, раз он приехал из Москвы. Да и то это было на первых порах. И самое главное — был Оганесян.
Тон, конечно, задавал Акоп Христофорович, которого почитали главным не по должности, а по существу. Что же касается его должности, то знали и видели: больше, чем он, никто не работает, больше, чем ему, никому не достается.
Вячеслав Алексеевич обычно трудно сходился с людьми. Мешала застенчивость, а может быть, и настороженность, появившаяся с годами, когда, увы, приходилось в ком-то разочаровываться. Но с Оганесяном он мог бы сойтись. Мешало другое. Оганесян, конечно, знал причины отъезда Вячеслава Алексеевича из Москвы. А если и не знал поначалу, то узнал потом: он часто бывал в Москве по делам, и вряд ли там — в облздравотделе или министерстве не заходила речь о Кириллове. Там могли говорить всякое, Вячеслав Алексеевич прекрасно понимал это. И в этой ситуации пойти на откровенность с Акопом Христофоровичем — волей-неволей значило жаловаться, оправдываться, доказывать свою правоту и неправоту других, чего Вячеслав Алексеевич терпеть не мог ни в себе, ни в других местных «борцах за справедливость», которые практически боролись всегда не за справедливость вообще, а за свою справедливость, то есть за себя. Вячеслав Алексеевич не хитрил перед Оганесяном. Не говорил, что отложил защиту, поняв, что в диссертации мало практического материала, что приехал сюда, мол, как раз для того, чтобы еще и еще раз все проверить на опыте типичного массового лечебного учреждения. Он говорил проще: «Куда спешить? Успеется!» и что-то еще в этом духе. И Оганесян не стремился вызвать его на откровенность, хотя мог бы сказать: «Не морочьте мне голову, дорогой! Если б не было там у вас в клинике этой дурацкой склоки, вы прекрасно защитили бы докторскую, и не делали из себя наивного скромника, и не говорили: «Успеется!» Но Оганесян молчал. И спасибо ему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
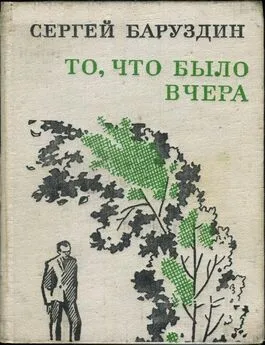

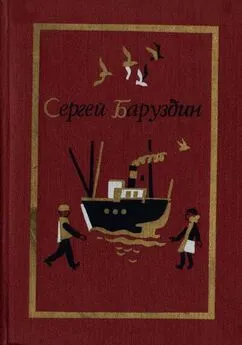
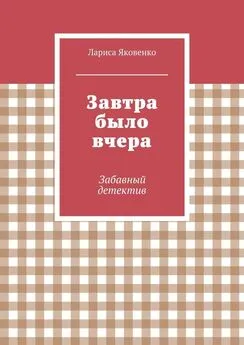
![Василий Грабовецкий - Завтра было вчера [СИ]](/books/1095386/vasilij-graboveckij-zavtra-bylo-vchera-si.webp)