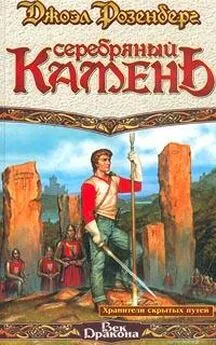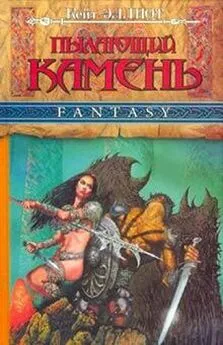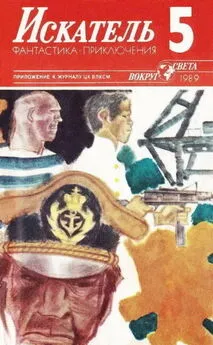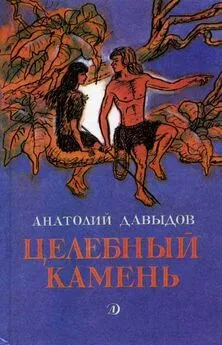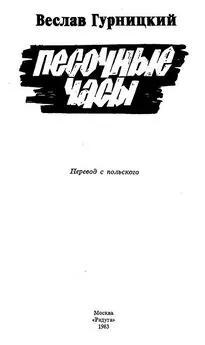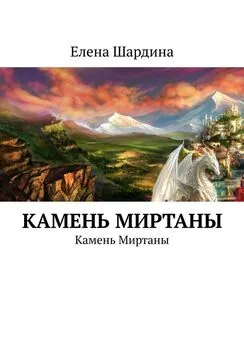Веслав Мысливский - Камень на камень
- Название:Камень на камень
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Веслав Мысливский - Камень на камень краткое содержание
Камень на камень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я бы мог еще много насчитать. Но что такое самому умереть, не знал. А может, и теперь не знаю? Память на покойников у меня, правда, хорошая. Хоть сейчас всех подряд перечислю, начиная с Врубеля. Мне тогда было года три, и мать взяла меня с собой, пойдем, сказала, попрощаемся с Врубелем, помирает он. Я боялся идти, думал, возле Врубеля смерть будет сидеть. А смерти я никогда не видел, кроме как на рождество, но тогда смертью был наряжен кто-нибудь из ребят. Мы вошли, Врубелиха что-то помешивала на плите, Юзек Врубель у окна на лавке сидел, починял вожжи, а в самом углу горницы высоко на белых подушках лежала голова старого Врубеля с усами, раскидистыми как веточки. Мы подошли к кровати, мать перекрестилась, стала на колени и мне велела стать. И тогда эти усы на подушках шевельнулись, а из-под перины высунулась сухая рука и на минуту задержалась на моей голове. Потом мы встали, мать спросила:
— Был ксендз?
— Был, — вздохнула Врубелиха и тут же напустилась на Юзека: — Юзек! Юзек! Да сходи ж ты! Сколько можно упрашивать?!
Я даже, кажется, спросил у матери:
— Мама, а где смерть?
Но она потянула меня за руку, и мы ушли. А на дворе пригревало солнышко, теплынь, и Козея гнал теленка, а теленок ужасно смешно взбрыкивал, я засмеялся, и мать засмеялась, и кто только ни шел по дороге, останавливался — и в смех.
— На колени, — прохрипел отец.
Я бухнулся на колени, цепь зазвенела у меня на шее.
— Перечисли все смертные грехи, — сказал отец. — И в грудь себя бей. Чтобы господь тебя простил. И три раза прочитай «Богородицу», чтоб и богородица простила. — И опустился на колени рядом со мной. Сплел руки на животе, закрыл глаза и тоже начал молиться. Воробьи с гомоном носились над нами по всему овину, словно обозлясь, что мы их всполошили. Я перечислил все семь смертных грехов, как велел отец, но ни один из них не походил на мой. За что же, подумал я, отец хочет меня повесить, когда господь не прощает только смертных грехов?
И тут ворота овина тихонько скрипнули. Я повернул голову и увидел в полосе света на краю гумна мать. Покосился на отца, но он, будто ничего не слышал, молился с закрытыми глазами, сложив руки на животе.
— Нет такой вины, чтобы своему дитю не простить, — заговорила мать. — А это твое дитё. Плохое ли, хорошее, но твое.
Я подался всем телом к матери, так, что опять зазвенела на шее цепь, и крикнул:
— Мама, за что меня тятя повесить хотят?! Лучше я влезу на самый высокий тополь за плотиной и свалюсь!
— Хоть и убей ты его, все равно твое, — теперь как будто мать меня не услышала. — Только уж ты не будешь ни его отцом, ни человеком.
Тогда сплетенные на животе отцовские руки расплелись, ослабли, и он, не вставая, тяжело уперся ими в колени. А под опущенными веками, казалось, сдерживал слезы. Погодя открыл глаза и усталым голосом сказал:
— Забери его. Я еще здесь постою.
После жатвы мать отправилась на поклон святым местам и взяла меня с собой. Шла тьма-тьмущая богомольцев, из нашей деревни и из других. Старые, молодые, мужики, бабы, девки, парни, женатые, замужние, по одному и целыми семьями. Шел ксендз, органист, Франтишек-причетник. Шли хоругви, шел образ богоматери из нашего костела. Шли с рассвета до вечера, с двумя остановками на отдых и одной на обед. Правда, были такие, что совсем бы не отдыхали, только шли и шли. Ночевали мы в деревнях, один только раз спали в лесу, под открытым небом, и раз на помещичьем поле в стогах. В пении тоже устраивали перерывы, ведь пели-то целый день напролет. Кое-кто даже не слушался органиста, который этим пением управлял, и в перерывах пел, особенно те, что шли впереди.
От пения этого люди теряли голоса и через несколько дней уже только кулдыкали, сипели, лаяли, квакали, ушам было больно слушать. У органиста одно легкое, что ли, усохло, и он все чаще объявлял перерывы и все дольше кашлял после каждого псалма. Но людям было наплевать на его кашель и, если он не начинал, начинали петь сами, органист волей-неволей подхватывал. А больше всех усердствовал Здун. Может, и вправду, как люди говорили, ему б надо органистом быть, кабы не его года. Вроде когда-то, если кто хотел, чтобы во время венчания на весь костел пели „Veni, creator“ [13] Veni, creator spiritus… — приди, дух творящий (лат.), начальные слова старинного католического гимна.
, то приглашал Здуна, а органист лишь подыгрывал тому на органе. На обратном пути Здун от этого пенья онемел и только показывал на пальцах, когда хотел что-нибудь сказать. Мать тоже охрипла и потом месяца два ромашку пила. Да и чему тут удивляться, всю дорогу шли в пыли. Раза два, может, побрызгал дождичек, а так все солнце да солнце, у людей в глотках желваки повырастали из этой пыли и слюны.
Я не пел, потому что еще не знал божественных песней, и то у меня в горле першило, все бы плевал и плевал. Шла перед нами Орышка, так она вперед перебралась, мол, Петрушкин малый плюется на каждом шагу. А Валишиха даже поругалась с матерью, что я ей на юбку наплевал, и давай всем показывать, вон чего наделал, стервец, глядите, люди, наплевал. А потом скажет, я на куриный помет села. Еще я наплевал Микуте на сапоги, он мимо нас на другое место протискивался и сам подвернулся под плевок. Попало на голенище, он ничего не заметил, шел дальше, как шел.
Дала мне мать четки, чтоб я почитал немножко «Отче наш» и «Богородицу», а не думал невесть о чем. Поначалу я эти четки нес в руке. Но неудобно было, все равно что с завязанными руками шел. Перышко, если долго нести, и то в конце концов превратится в курицу, утку или гуся. Так и четки эти тяжелые сделались как цепь. Повесил я их на шею, и сразу не руки у меня стали, а крылья.
Мы в аккурат проходили мимо какого-то сада, яблоки-малиновки так и сверкали в листве. Вижу, мать распелась, голову запрокинула, глаза сощурила, потому что мы против солнца шли. Я оглянулся налево, направо, назад — все так же, себя не помня, поют, и глаза у всех сощурены от солнца. А понизу пыль выше колен. Еще перед нами Коляса шел, у него с войны одна нога не сгибалась, он и пылил, будто нарочно, этой ногой. Все его от себя гнали, пускай идет в конце, но он уперся и из середины никуда.
Сперва я чуть поотстал, чтоб не рядом с матерью идти. Потом передвинулся поближе к краю, а оттуда шасть в сад. Пели как раз: о, пресвятая дева, матерь божия, так что никто ничего не заметил. Да и привыкли паломники, что на каждом шагу кто-нибудь отходил в сторонку по нужде, могли подумать — и я за тем. Подбежал я к самой развесистой яблоне и принялся рвать яблоки, сколько было прыти в руках. Полпазухи набил, и вдруг из-за деревьев донесся крик:
— Взять его, Азор! Держи вора! Я тебе покажу, поганец, как яблоки красть!
Но Азор не успел меня догнать — я нырнул обратно в толпу. Выскочил пес из сада и обалдел, потому что гнался за одним, а увидел нежданно-негаданно тьму людей, да еще поющих. И вместо того, чтоб залаять, отчаянно завыл. А минуту погодя за ним следом вылетел мужик, чего-то крича, размахивая палкой, я подумал, сейчас начнет меня среди богомольцев искать. В случае чего под хоругви спрячусь. Но он вдруг остановился и замолчал, будто язык проглотил, может быть, вспомнил, что и ему бы не мешало поклониться святым местам, а то набралось этих грехов, ой, набралось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: