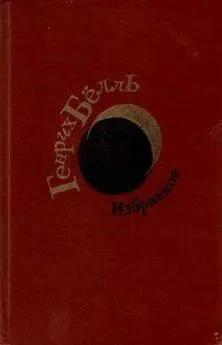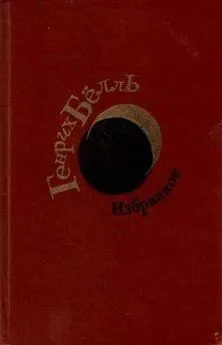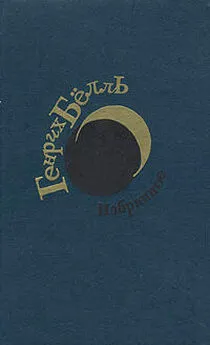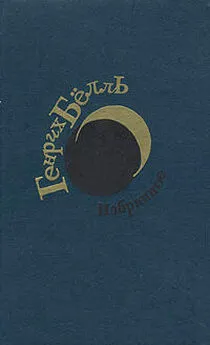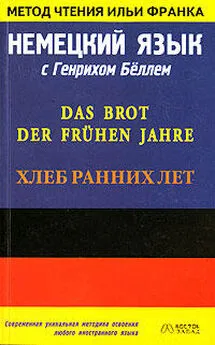Генрих Бёлль - Чем кончилась одна командировка
- Название:Чем кончилась одна командировка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-280-01219-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Генрих Бёлль - Чем кончилась одна командировка краткое содержание
Эта повесть — одно из немногих произведений Бёлля, которое вообще невозможно понять в отрыве от его «эстетики гуманного». Здесь она и тема, и фактура, и смысл. Бёлль как бы задался здесь целью явить читателю все нравственные и эстетические опоры своего художественного мира.
Повесть источает упоение провинциальным бытом: сонное время Богом забытого городка воспроизведено благоговейно, по минутам, без намека на кощунственную попытку его ускорить. Бёлль как бы разворачивает перед нами панораму «нормального» человеческого существования во всех его радостях.
Чем кончилась одна командировка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Войдя в кабинет, где свежий сигарный дым говорил о мужественности в настоящем, а застоявшийся — о былой мужественности, где огромная стоячая лампа под зеленым шелковым абажуром «распространяла вокруг себя блеклое достоинство», как позднее выразился Бергнольте, а полки, заставленные книгами, свидетельствовали о солидной учености, Грельбер, чья доброта была не только написана на его лице, но признавалась всеми его студентами и подчиненными, не считая нескольких смутьянов, сказал, что «сегодня в виде исключения открывает доступ сигарете в сии священные покои», но при этом даже не предложил Бергнольте снять пальто. Он засмеялся, когда Бергнольте рассказал ему о нервном припадке прокурора и о мере наказания, которую тот потребовал, улыбнулся, услышав о приговоре, вынесенном Штольфусом, и записал себе имена: Кольб, Бюрен, Куттке. Самая манера, с какой он время от времени прерывал отчет Бергнольте, когда тот, вместо того чтобы кратко охарактеризовать поименованных лиц, вдавался в чересчур пространные спекулятивные рассуждения о государстве и праве, была такой же любезной и добродушной, как и жест, которым он дал понять собеседнику, что разговор окончен, и без «дальнейшей канители» — впрочем, Бергнольте был к этому привычен — собственноручно снял трубку, набрал номер, самолично заказал для него такси и пожелал ему «вполне, вполне заслуженного ночного отдыха». Бергнольте высоко оценил деликатность Грельбера, в такой день не заговорившего о должности, не только обещанной ему, Бергнольте, но, можно сказать, за ним уже закрепленной. Зная, что он там никого не разбудит, так как его сообщение будет записано на автоматически включающийся магнитофон, Грельбер сначала убедился, что Бергнольте уехал, потом набрал номер того депутата, которого вчера вечером встретил выходящим из театра вместе с Хольвегом. Он продиктовал на пленку меру наказания, имена: Куттке, майор Трёгер и полковник фон Греблоте, затем произнес еще несколько отчетливо артикулированных фраз, прося депутата получить у министра по делам вероисповеданий, хоть и не товарища по партии, но его, депутата, доброго приятеля, как можно более подробные сведения о некоем профессоре Бюрене. Он положил трубку, несколько мгновений сомневался, стоит ли по такому поводу среди ночи беспокоить прелата, с которым, впрочем, был достаточно близок, чтобы в экстренных случаях будить его по ночам. Потом, уже с телефонной трубкой в руке, вспомнил, что, по словам Бергнольте, показания патера Кольба слышали только два посторонних слушателя, и отложил разговор до утра (когда около одиннадцати он и вправду позвонил прелату, тот первым делом спросил, сколько человек присутствовало в это время, и, услышав цифру два, названную Грельбером, весело расхохотался, не по возрасту весело, он даже поперхнулся так, что у него сделался приступ удушья, и вынужден был прервать разговор, не успев сказать Грельберу, что патеру Кольбу случалось по воскресеньям высказывать эти «странные воззрения» двум, а то и трем сотням слушателей из числа своей паствы).
Протоколист Ауссем последним вышел из здания суда, отвергнув предложение Шроерши — она хорошо к нему относилась и, приходясь ему родственницей по матери, требовала, чтобы он во «внеслужебное время» называл ее тетей, — поужинать вместе с нею и ее мужем шмитцевскими бутербродами; он пересек бывший школьный двор и пошел к мосту через Дур. Ауссем, смывший с себя усталость холодной водой, пребывал в настроении почти эйфорическом и растроганном из-за прощальной речи старика Штольфуса: ему необходимо было отвести душу, и почему-то он решил, что в этот час скорее всего встретит кого-нибудь, если свернет вправо от статуи св. Непомука к дому Агнес Халь, но, к вящему его удивлению, дом был погружен в темноту, а в воротах — этому он уже меньше удивился — стояли, обнявшись, Ева Шмитц и молодой Груль, в позе «почти скульптурной», как он выразился позднее. Ауссем быстро повернул в другую сторону, уже в настроении менее приподнятом: его не только терзала ревность, но и печалило то, что для него был закрыт доступ в заведение Зейферт, так как она грозилась, если он не заплатит своих долгов, сообщить его отцу, сапожнику Ауссему, о «шикарной привычке сынка угощать шампанским всех встречных и поперечных». В своем размягченном и почти лирическом настроении он не надеялся склонить бойкую на язык Зейферт к предоставлению ему дальнейшего кредита и был уже близок «к резиньяции [32] Резиньяция (от англ. resignation) — отставка, подчинение, смирение.
», то есть к смиренной готовности вернуться домой, где запах кожи доставлял ему «хоть и не всегда, но достаточно часто больше неприятностей, чем постоянная меланхолия рано овдовевшего отца». Но тут он заметил — «и я впервые понял, сколько радости и надежды таит в себе выражение «свет во тьме» — свет в окне типографии «Дуртальботе», пошел на него, открыл незапертую дверь, застал своего товарища по партии Хольвега в ожесточенном споре с «близко стоящим» к той же партии Брезелем, причем, как он рассказывал позднее, впервые заметил, «какое глупое выражение может вдруг приобрести симпатичное и красивое лицо Хольвега». Ослабив узел галстука, засучив рукава и «размахивая бутылкой», Хольвег опять уже сидел за наборной машиной (кстати сказать, наборщик «Дуртальботе» считал его работу «бессмысленной и начисто излишней», так как ему приходилось заново все набирать после его пачкотни, а платы за этот свой труд он не получал, так как никто не должен был знать, а Хольвег и подавно, что его, Хольвега, ночные и предрассветные забавы все равно идут псу под хвост) и препирался с рассерженным Брезелем из-за словечка «пухлый», которым тот не воспользовался при описании лица Шевена; он, Хольвег, встретил прилагательное «пухлый», примененное к губам детоубийцы Шевена тремя разными репортерами в двух ежедневных центральных газетах и в одном центральном еженедельнике, почему же, спрашивается, именно Брезель пренебрег этим словом?
Потому, отвечал Брезель, уже не скрывая своей раздраженности и презрения к недоумку Хольвегу, потому что губы у Шевена нисколько не пухлые, даже «не толстые», а просто губы «без особых примет», он назвал бы их «нормальными», если б выражение «нормальные губы» не представлялось ему смехотворным; выходит, заметил Хольвег, в котором сквозь облик «рабочего человека», впрочем всегда казавшийся Ауссему «достаточно искусственным», внезапно проглянул «хозяин», выходит, что все другие репортерты люди слепые, глупые или предубежденные, а он, господин Вольфганг Брезель, «единственно зрячий» и ему одному открыта истина о губах Шевена. Нет, сказал Брезель, он не единственно зрячий, никакая истина ему не открыта, да ее и нельзя открыть, потому что губы у Шевена не пухлые, во всяком случае — хоть он и смотрел на Шевена восемь часов подряд — в тот день они пухлыми не были! «Ara!» — воскликнул Хольвег уже менее высокомерно и предложил Ауссему достать себе из ящика бутылку пива, теперь Брезель пошел на попятный и уже пользуется оборотом «не были».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: