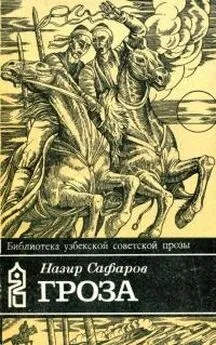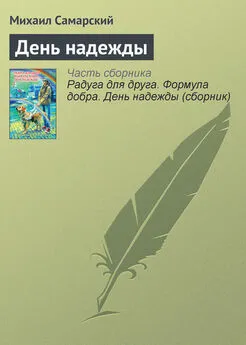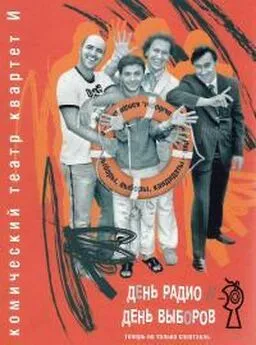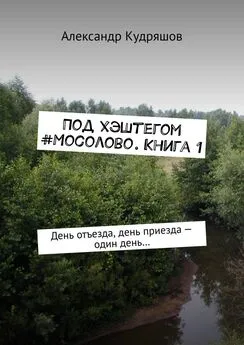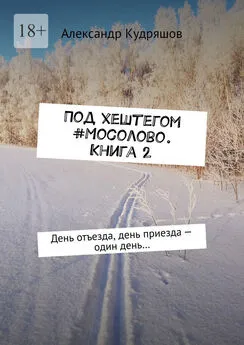Назир Сафаров - День проклятий и день надежд
- Название:День проклятий и день надежд
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство художественной литературы им. Гафура Гуляма
- Год:1970
- Город:Ташкент
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Назир Сафаров - День проклятий и день надежд краткое содержание
«Страницы прожитого и пережитого» — так назвал свою книгу Назир Сафаров. И это действительно страницы человеческой жизни, трудной, порой невыносимо грудной, но яркой, полной страстного желания открыть народу путь к свету и счастью.
Писатель рассказывает о себе, о своих сверстниках, о людях, которых встретил на пути борьбы. Участник восстания 1916 года в Джизаке, свидетель событий, ознаменовавших рождение нового мира на Востоке, Назир Сафаров правдиво передает атмосферу тех суровых и героических лет, через судьбу мальчика и судьбу его близких показывает формирование нового человека — человека советской эпохи.
«Страницы прожитого и пережитого» удостоены республиканской премии имени Хамзы как лучшее произведение узбекской прозы 1968 года.
День проклятий и день надежд - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пожалуй, чаша — не то обозначение. Допустим, мир — огромный пруд, или хауз, как мы его называем, и он полон до краев заботами и лишениями. Наши отцы и матери в те далекие времена, терзаемые голодом и жаждой, пили из этого хауза не воду, а горе. С какой бы стороны ни подходил к пруду бедняк, как бы ни ловчился, как бы ни пристраивался, надеясь хлебнуть живительной радости, в рот ему попадала соль слез и горечь отчаяния.
Еще глоток ему предстояло выпить из этого хауза. Последний глоток. Вот почему Джизак так взволновался и так ожесточился. Еще точно не зная, какова мера последнего глотка, люди уже стонали и плакали. Неизвестное всегда кажется страшным. Оно с каждой минутой растет в своем стремлении напугать человека. И в конце концов он в отчаянии вступает в борьбу с этим неизвестным.
Весь Джизак пока что метался в страхе. Почти весь, если не считать хафизбаев, бабаханов, сидикханов и прочих баев города, которые после посещения полковника Рукина успокоились и затихли. Когда какой-нибудь наивный дубильщик кожи или ткач обращался к ним с беспокойным вопросом — что же будет? — они, подняв глаза к небу, отвечали:
— На все воля божья!
Конечно, ссылка на бога мало что объясняла дубильщику, и он шел дальше, к другим, более простым людям, за советом.
Задающих вопросы было так много, что, естественно, они не могли вместиться в доме или дворе. Они собирались на перекрестках — гузарах, где, как правило, стояли чайханы и ютились лавчужки со всякой хозяйственной мелочью. Базар нашей махалли был самым оживленным в городе. Здесь пролегали дороги за город, и бесчисленные арбы постоянно сновали взад и вперед. Арбакеш, минуя гузар, нет-нет да и задержится на минутку, а то и на часок, выпьет чаю, поболтает со сведущими людьми, сам что-нибудь расскажет. Задерживались здесь и горожане: мало ли что требуется человеку, хотя бы тот же чай или та же соль, без которой самая добрая шурпа кажется пресной. Или спички, или обыкновенный гвоздь. В общем, на перекрестке всегда люди. Много людей.
Каждый гузар славился чем-нибудь. То богатой чайханой, то кузницей, то лавкой со сладостями. А то и того проще — вкусными лепешками, жирным пловом, какими-нибудь свистульками или куклами. Наш гузар был известен самсой деда Урунбая. Не помню уже, чем она отличалась от самсы, скажем, какого-нибудь Хашима или Гафура, но слава ее была велика. Чуть ли не со всей махалли люди стекались к нашему гузару, чтобы отведать самсу Урунбая.
О самом Урунбае тоже шла добрая слава. Он продавал самсу, но никогда не брал в руки денег. Появившись на перекрестке, Урунбай-ата ставил таз с самсой на супу чайханы, а сам удалялся в мастерскую Мирбака. Я назвал мастерской крошечный навесик старого паяльщика посуды. Но пусть будет так. Бедному Мирбака, составлявшему из осколков чайники и пиалы бедняков, приятно именовать собственный закуток мастерской, а себя считать владельцем дела. Так вот, Урунбай-ата оставлял тазик с самсой на супе и шел к паяльщику отвести душу беседой. Беседа доставляла удовольствие, к тому же сопровождалась чаепитием; старый Урунбай-ата запасался щепоткой чая у чайханщика, всыпал ее в крошечный чайник, когда-то спаянный тем же Мирбаком из осколков, заливал крутым кипятком и, выждав положенное церемонией заварки время, сцеживал полученный напиток в пиалу, опять-таки составленную из кусочков Мирбаком. Напиток несколько раз попадал в пиалу и столько же раз возвращался в чайник, пока крепость его и аромат не достигали нужного предела, лишь после этого чай касался губ требовательного Урунбая-ата. Он отпивал глоток за глотком из своей пиалушки, причмокивая и вздыхая от удовольствия, а чайник в это время покоился рядом, укутанный бельбагом — поясным платком. Урунбай-ата продолжал свое важное дело — превращал напиток в еще более крепкий и ароматный, вытягивая в тепле из крошки чайного листа все его живительные силы.
Пока текла неторопливая беседа мастера самсы и мастера пиал, тазик на супе постепенно опустошался. Обычно маленький чайничек хранил в себе еще глотки ароматного напитка, а в тазу не оставалось уже ни одного пирожка и покупатели начинали спор, кому съесть последний, взятый со дна. Так, без хозяина, шла торговля, выручка складывалась тут же около тазика, и люди сами меняли деньги и брали сдачу, если она им полагалась. Когда кто-нибудь подходил к Урунбаю-ата и высказывал на ухо свои сомнения или подозрения, мастер самсы равнодушно отмахивался:
— Э-э, зачем мне считать деньги, — говорил он. — Пусть сам бог пошлет справедливость и обилие.
— Нехорошо, — укорял Урунбая-ата сомневающийся. — Деньги счет любят, мало ли на свете бесчестных…
— Так пожелайте им совести, брат!
— Мои пожелания или даже молитва мало что прибавят таким людям. Ведь у человека пять пальцев, и все разные.
— Вы правы, брат, лес без волков не бывает. Но слава аллаху, сорок лет кормлю и людей и семью этой самсой и пока еще здравствую. Не был голоден, но и не лопнул от сытости. Стану ли теперь богаче, если начну подсчитывать выручку!
Так отвечал сомневающимся Урунбай-ата и приносил новый тазик горячей самсы и ставил на прежнее место.
Утоляя жажду крепким чаем и потчуя им пайщика посуды, Урунбай-ата нет-нет да и положит перед Мирбака пару румяных самса. Тот жужжит своим сверлом, старательно углубляя дырку на фарфоре, чтобы вставить в нее потом клепку и соединить осколки, и не смотрит на угощение. Бедному посуднику хочется отведать горячей самсы, но неловко сделать это без вознаграждения, а вознаградить пекаря нечем — гроши, которые зарабатывает он, ремонтируя битую посуду, нужны семье. Урунбай-ата знает это и еще ближе подсовывает другу самсу.
— А ну, кончайте, дружище, работу, — говорит он. — Мирские заботы никогда не иссякнут. Отец ваш не знал покоя, да так и расстался с нами в хлопотах. Прервитесь, чтобы отведать горячей самсы, всех дел все равно не переделаешь. А эта самса особенная, она увидела лик божий. — И Урунбай-ата переворачивает самсу, показывая испачканный золой бок. — Слетела со свода тандыра, не дождавшись пока ее снимут. Торопящихся глянуть на небо я отдаю только своим друзьям. Отведайте-ка, дружище!
Конечно, разве можно устоять против такого соблазна? Мирбака берет самсу и кладет в рот, а пекарь наливает ему в только что отремонтированную пиалу свежий чай и приговаривает:
— Поражен вашим искусством, Мирбака. Вы вернули жизнь пиале, которая раскололась на девять частей. Стоит ли чапан заплаты. Дешевле купить новую пиалу, чем ремонтировать старую.
— Видать, милый отец, вы не знаете, что есть и пить из посуды, которая живет вторую жизнь, дело благородное.
— Конечно, хотя их благородие ишан Бабахан или его светлость Хафизбай, я слышал, пьют чай из китайских пиал прозрачного фарфора с серебряным звоном. А клепаная пиала, как известно, звона не издает. Впрочем, тонкое ухо может услышать звон и в разбитой пиале, именно по этой причине я пользуюсь своим старым чайником, который давно отжил свой век и не раз побывал в ваших искусных руках…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
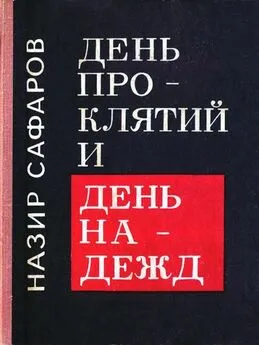

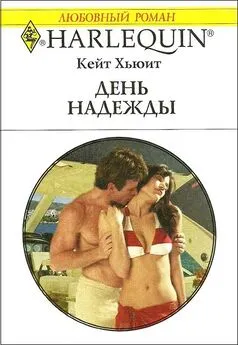
![Джон Уиндэм - День триффидов [День триффидов. Куколки. кукушки Мидвича. Кракен пробуждается]](/books/584407/dzhon-uindem-den-triffidov-den-triffidov-kukolk.webp)