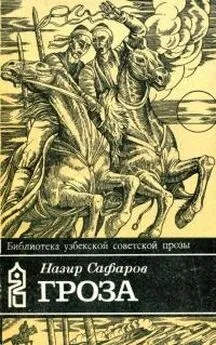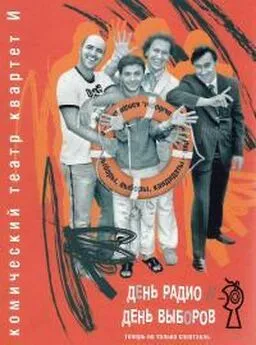Назир Сафаров - День проклятий и день надежд
- Название:День проклятий и день надежд
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство художественной литературы им. Гафура Гуляма
- Год:1970
- Город:Ташкент
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Назир Сафаров - День проклятий и день надежд краткое содержание
«Страницы прожитого и пережитого» — так назвал свою книгу Назир Сафаров. И это действительно страницы человеческой жизни, трудной, порой невыносимо грудной, но яркой, полной страстного желания открыть народу путь к свету и счастью.
Писатель рассказывает о себе, о своих сверстниках, о людях, которых встретил на пути борьбы. Участник восстания 1916 года в Джизаке, свидетель событий, ознаменовавших рождение нового мира на Востоке, Назир Сафаров правдиво передает атмосферу тех суровых и героических лет, через судьбу мальчика и судьбу его близких показывает формирование нового человека — человека советской эпохи.
«Страницы прожитого и пережитого» удостоены республиканской премии имени Хамзы как лучшее произведение узбекской прозы 1968 года.
День проклятий и день надежд - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На нас несколько раз нападали полицейские, но русские рабочие давали им отпор — бросали камни, вырванные прямо из мостовой. Никогда еще я не видел такой сплоченности и такой смелости. Оказывается, в сплоченности — великая сила. Только так можно победить.
Это была первая наша демонстрация вместе с русскими рабочими. Потом состоялась вторая. Мы уже поняли что к чему и охотно выходили на улицу по сигналу гудков. Последний раз рабочие собрались на митинг в день свержения царя. Все поздравляли друг друга, обнимали, целовали. Нам один старый рабочий сказал:.
— Ну братцы, теперь скоро поедете домой. Конец Николашке!
И верно, через неделю началась отправка мардикеров в родные места…
Рассказ сына Мукима произвел на меня большое впечатление. Не жалость, не сочувствие к этим измученным, уставшим людям вызвал он во мне, а восхищение. Дома я поведал все отцу. Он выслушал меня, потом, поразмыслив, сказал:
— Вернулись сыновья Джизака, но не те, которых мы провожали. Совсем не те…
Под пеплом — огонь
Отец сидит на корточках, прислонясь к столбу, что подпирает террасу, и дремлет в теплых лучах сентябрьского солнца. А может, и не дремлет. Но глаза закрыты, и лицо какое-то расслабленное, отрешенное…
Как он изменился за это лето. Постарел, подряхлел, стих. Вот так часами может сидеть на солнце и предаваться своим невеселым мыслям. Откуда я знаю, что мысли его невеселые? Конечно, отец не делится со мной, да и вообще ни с кем не делится ими, но ведь нетрудно догадаться, что на душе у человека, который вернулся в родной город и увидел пепел. Собственный дом его тоже опустел и, кроме этих стен и голых деревьев, ничего, ничего не напоминает прошлого.
День-деньской мы донимаем старших мольбой о хлебе. Глупые малыши, особенно мой трехлетний братец, не желают считаться с доводами матушки о необходимости терпения. Она, бедная, и уговаривает, и угрожает, и даже порой шлепает настойчивых просителей, но разве словом, пусть самым добрым и щедрым, утолишь голод? Не утолишь. Только ранишь собственное сердце. А оно у матушки все израненное, поэтому она, шлепнув в отчаянии братца, сама предается слезам. Много слез нужно ей — ведь горе и тяготы на каждом шагу, их не счесть. И на все — слезы. Хорошо, что они не застлали перед ней дорогу. Она видит что-то, к чему-то идет, стремится. С рассвета она уже на ногах, хлопочет, выискивает, чем бы поддержать семью. Когда она ложится спать, я не знаю. Мои глаза слипаются раньше ее глаз. Мы видим сны, а она все стучит своими кавушами по дорожкам двора, и оттого всем спится спокойнее — значит, утром будет что положить в наш ненасытный рот. Мы мечтаем о пшеничной лепешке, но корж из отрубей нас тоже устроит. И еще как устроит!
Да, матушка не жалеет своих ног. И они у нее неутомимы. А отец сидит. Сидит, прислонившись к столбу, и дремлет на солнце. Одежда его обносилась, истлела, от старого чапана остались лишь спина и плечи. Все прочее — лохмотья. Поэтому он не одевает его, а накидывает на плечи: так дыры менее заметны.
Одеждой отец стал похож на нашего махаллинского попрошайку Шахфайзи. У того был такой же чапан — без ворота, обшлагов и подола. Правда, он надевал его на себя, а отец накидывает, словно этим отстраняется от нищенских лохм. В нем еще сохранилась какая-то гордость от далекого прошлого: в молодости он был кузнецом, потом превратился в коробейника — чорбазарчи и вроде бы вел собственное дело, хотя все оно умещалось в одном хурджуне и существовало с помощью ног и спины. Однако отец считал себя самостоятельным, даже независимым человеком. Теперь он никому не нужен. Город разорен, разрушен, базар сожжен, ряды кузнецов, кожевников, гончаров, мыловаров превращены в пепел. Никто ничего не вырабатывает и, следовательно, не продает и не покупает. Хурджун отца валяется в сарае, и его, наверное, уже прогрызли мыши. Впрочем, они могли бы съесть его целиком — вряд ли он теперь понадобится. Так рассуждает отец. И переубедить павшего духом человека не может никто, даже матушка, которая много раз принималась стыдить отца — голод пришел в дом и надо что-то делать для спасения семьи.
— У всех голод, — отвечал отец. — Если и найдется отзывчивый сосед, то сможет поделиться со мной лишь своим несчастьем.
— Не просить милости, а работать я посылаю вас, — объясняла матушка.
— Ха, или есть такие благодетели в Джизаке, что нанимают работников строить дома из воздуха или мечети из воды и за это кормят его шурпой с бараниной?..
Матушка всплескивала руками:
— Будто уж нет никакого дела в городе?!
— Дела много, но люди сами управляются с ним. Рыть могилы и носить умерших на кладбище — обязанность близких родственников. А ангел смерти Азраил пока еще не призвал меня к этому скорбному делу, да и, дай бог, не призовет слишком скоро…
— Вай, зачем вспоминать Азраила? Лучше бы мне не слышать ваших слов!
Так заканчивались разговоры с отцом о хлебе насущном. Примерно так же обо всем остальном, что касалось будущего семьи. Вначале, когда мы вернулись с поселения, в сердце отца жила какая-то надежда на перемены. Он суетился, бегал по городу, что-то искал, делился с матушкой своими планами, но постепенно убежденность его стала меркнуть и совсем погасла. Джизак больше не нуждался в нем — это сломило дух чорбазарчи. Все чаще и чаще оставался отец дома, все дольше просиживал у террасы, прислонив спину к столбу, и наконец место это сделалось для него постоянным.
И вот сейчас он дремлет на солнце, а я смотрю на него, покачивая люльку — бешик, в которой хнычет голодная моя сестренка. Она всегда голодная: у матушки нет молока. Мне приходится утешать малышку песней. У меня у самого в животе песня и довольно громкая: с утра мы ничего не ели, ждем катырму. Но урчание желудка — это не та мелодия, что навевает сон, напротив, она прогоняет его. Поэтому я пою сестренке о птичке, о солнышке, обо всем, что приходит мне в голову. Слова, конечно, подбираю самые ласковые.
Баиньки, мой барашечек!
Баиньки, мой счастливый…
Слова эти я взял из песни матушки, которой она убаюкивала меня и братьев моих — старая, вечная песня о счастье и радости детства. Но к моей сестричке это так не подходит! Обшарпанный бешик, какие-то тряпки вместо одеяльца и главное — пустой рот. В нем нет даже жеваного мякиша, завязанного в тряпицу и заменяющего соску. Песня, по моему разумению, должна возместить все, вот я и стараюсь — качаю бешик и пою. Пою громко и бешик качаю изо всех сил.
Песня, однако, не заменяет мякиша. Сестричка хнычет, постепенно хныканье перерастает в плач. Он какой-то сиплый, с хрипом. Конечно, доведись мне проплакать весь день, я вовсе бы потерял голос, а она еще способна издавать какие то звуки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
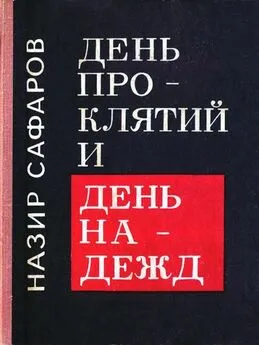

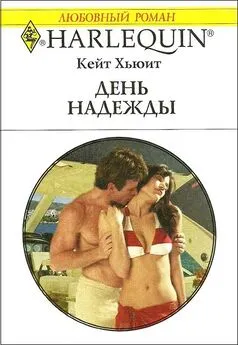
![Джон Уиндэм - День триффидов [День триффидов. Куколки. кукушки Мидвича. Кракен пробуждается]](/books/584407/dzhon-uindem-den-triffidov-den-triffidov-kukolk.webp)