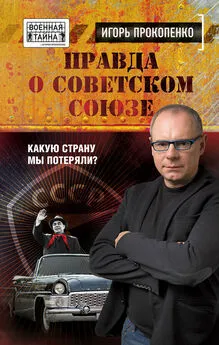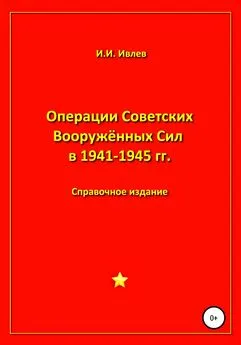Игорь Оськин - Эвтаназия советского строя
- Название:Эвтаназия советского строя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Оськин - Эвтаназия советского строя краткое содержание
Эвтаназия советского строя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он же всю жизнь повторяет грустное успокоение от Пушкина: «День каждый, каждую годину / привык я думой провождать / Грядущей смерти годовщину / меж них стараясь угадать… И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть / И равнодушная природа / Красою вечною сиять»).
Очень любит последнюю симфонию Чайковского, но старается пореже слушать – прощание с жизнью, слеза прошибает. Автор написал и умер (в 53 года).
Его жизнерадостный начальник как-то поведал:
— А старики не боятся смерти, они спокойно к ней относятся.
«За такие слова по морде бьют!» – в свои 30 лет только так мог подумать. Однако с годами страх ослабел, возникло некое равнодушие, безразличие. По времени это совпало с годами разрушения страны после 1985 года, с депрессией по этому поводу. Бодрый вид западных пенсионеров позволяет предположить: возможна спокойная старость, сопровождаемая словами Наставника: «Я радостно возвращаюсь к Богу, зная, что мне будет хорошо. И не только не сокрушаюсь, но радуюсь тому переходу, который предстоит мне». Ну, насчет радуюсь он, пожалуй, переборщил.
Теперь его, как и других атеистов, преследуют. Кричат: раз ты безбожник, значит тебе все дозволено, никакой морали у тебя нет. «Господа, говорит он, граждане, помилуйте! Меня воспитывали в любви к ближнему, в духе советского морального кодекса, намекая при этом, что кодекс списан с заповедей Христа. По жизни я не крал, не убивал, не прелюбодействовал (ну, почти). Да, служил в армии, ходил в суды, но церковь в отличие от Христа, допускает сие. Да, знаю эту заповедь Достоевского: не имеющий надежды на Царство Небесное считает, что здесь на земле всё дозволено. Но я-то наоборот, помня о конечности жизни, спешил сделать всё как лучше: учиться, трудиться ради общего блага, детей вырастить. Да, хотел заниматься не всяким трудом, а только творческим. Так ведь и об этом Христос сказал в притче о талантах – не зарывай в землю (Мф 25,14–30). Да, в спешке мог быть непослушен – если казалось, что начальство не печется об общем благе, мог и врезать ему. А оно – мне. Христос же говорил: Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное (Мф 5,10)».
А Достоевский был художник, поэт мысли. Кроме формулы «Все дозволено» у него были и другие озарения: легенда о Великом Инквизиторе, слезинка ребенка для счастья человечества, «право» великого человека на преступление, «красота спасет мир», «бесы»… А вот еще одну любопытную находку (догадку?) почти не вспоминают. В «Подростке» – большой монолог о людях, потерявших Бога, почувствовавших себя сиротами и посему возлюбивших друг друга. «Я представляю себе, мой милый, что бой уже закончился и борьба улеглась… Настало затишье и люди остались одни , как желали: великая прежняя идея оставила их… И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют всё друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток к тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, глазами любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это – всё, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем всё свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле – ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, — думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, — но всё равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» – и эта мысль, что они останутся, всё так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и счастие каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть…»
Как хорошо быть поэтом – он и так может, и этак!
«А я так и остался без веры в Бога. Меня с ним как-то никто не познакомил».
Интересно, что Конфуций говорил только о моральном кодексе, а о Боге не говорил и загробной жизни не обещал.
Мы диалектику учили не по Гегелю.А по краткому курсу истории компартии, одна глава которого излагала основные гегелевские понятия. Излагала просто и ясно. Похоже на то, что вождь сам написал, теоретик марксизма, ученик духовной семинарии.
Изучение началось в вузе, повторение пройденного – каждые два года в системах политической учебы. (За два года овладевали кратким курсом, потом начинали снова, с отмены крепостного права). Утомительно.
Учили такие законы диалектики, как переход количественных изменений в качественные, единство и борьба противоположностей, закон отрицания отрицания. Учили так: зачитывали закон и приводили примеры из жизни. Его подмывало копнуть глубже: почитать самого Гегеля. Все его уважают, не только марксисты. В начале 19 века люди бредили Гегелем, в том числе передовые русские мыслители Белинский, Герцен. Товарищу Герцену – самая глубокая благодарность! В отчете о былом он описал свое увлечение Гегелем с присущей ему самоиронией: изложил некую очевидную мысль простым языком, а потом – гегелевским. Потрясающий эффект! Желание читать Гегеля отпало враз и навсегда. Добрейший Александр Иванович добавил в оправдание великого диалектика: он, мол, зашифровывал свои мысли ради потехи над своими нестерпимыми поклонниками.
Философская заумь, наверно, вообще присуща ученым немцам. Колесов долго собирался одолеть «Капитал» Маркса, прочитывал первые главы и отключался. Потом его успокоили зарубежные авторы толстой книги «Современные экономические учения» – о двух десятках самых великих экономистов мира, в том числе о Марксе, в предисловии они высоко оценили его заслуги и мимоходом отметили излишнюю усложненность текста. Большое им спасибо, больше он никогда не брался за «Капитал».
Еще несколько раз прогорал на немцах. «Закат Европы» Шпенглера – какое интригующее название. Оказалось – гадание на кофейной гуще, напыщенная шелуха. «Доктор Фаустус» Манна, Ницше. Благодаря им научился читать по диагонали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

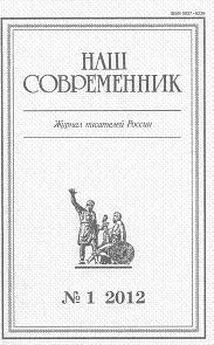
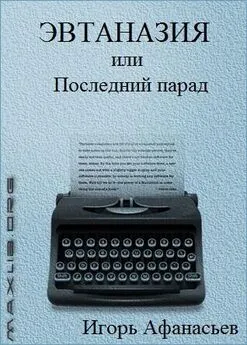
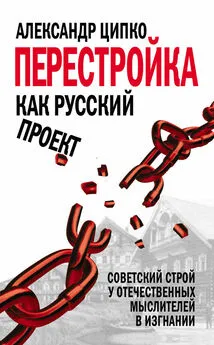
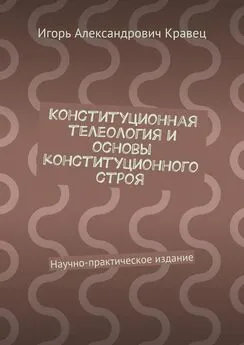
![Игорь Дубов - Современная советская фантастика [Сборник]](/books/1080522/igor-dubov-sovremennaya-sovetskaya-fantastika-sbor.webp)