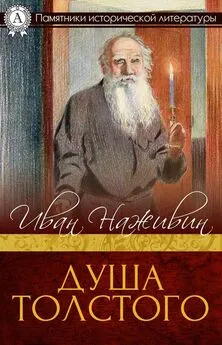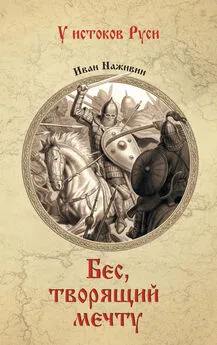Иван Наживин - Душа Толстого
- Название:Душа Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ИТРК»
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-88010-157-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Наживин - Душа Толстого краткое содержание
Книга издается к 175-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.
Душа Толстого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В этом романе И. Наживин и в самом деле развертывает широкую панораму жизни российского общества в 1910-1920-х годах, раскрывает душу русского человека. «Самое горькое, – пишет Наживин, – что в народе нашем нет теперь никаких устоев, никакой веры, у него в душе страшная пустыня, и я готов вам тысячи раз кричать: быть беде!..». Главный герой романа совсем не прост, он от природы талантливый политик и, наверное, экстрасенс, как сказали бы мы сегодня, ибо творил чудеса: тасовал правительство, менял министров, имел ничем не объяснимое влияние на императора и императрицу. Будучи злым гением разрушения, Распутин сам не мог не сокрушаться из-за подлости человеческой натуры.
Русскому народу в критические моменты его истории посвящены блестящие романы Ивана Наживина: «Глаголют стяги» (из эпохи князя Владимира Красное Солнышко); «Бес, творящий мечту» (о нашествии Батыя на Русь); «Кремль. Хроника XV–XVI вв.» (времена Ивана III), «Казаки» (Степан Разин). Писатель воссоздает исторические события через судьбы всем известных и простых людей, причем делает это с большой эпической силой. Вот, к примеру, какими сочными мазками набрасывает он портрет Степана Разина: «Рослая широкоплечая фигура атамана… Его грубое, рябое лицо с небольшой черной бородой было правильно и красиво какою-то особою степной, дикой, звериной красотой, и карие глаза смотрели строго и повелительно. Чуяли в нем казаки присутствие какой-то силы темной, считали его немножко ведуном, побаивались его, гордились им…»
В романе «Во дни Пушкина», как и обычно в произведениях Наживина, читателя захватывает динамичный увлекательный сюжет, масштабное историческое обозрение. Среди действующих лиц – Александр I и Николай I; Крылов, Гоголь, Жуковский и молодой гусар Лермонтов; московский любомудр Чаадаев и целая галерея декабристов; генерал Ермолов и шеф жандармов Бенкендорф, которому Николай I поручил «утирать слезы» России… Из этого объемного (в трех книгах) романа читатель узнает немало нового, а многое, уже известное, предстает в ином освещении. Необычен и наживинский Пушкин: это полнокровный образ великого поэта, патриота и в то же время – обычного земного человека. Ему отнюдь не чужды неожиданные порывы души и удивительные поступки, за которыми всегда скрывается художник, без устали и отдыха познающий жизнь во всем ее многообразии. Таков блестяще выписанный эпизод почти насильного приглашения Пушкина небезызвестным графом Ставрогиным – в своем поместье («мини-России») самого царя и Бога, которого обслуживали семнадцать лакеев, при этом каждый из них делал только что-то одно (подавал трубку, другой – стакан воды и т. д.) и у которого в нищете умирал от чахотки крепостный музыкант.
Одним из главных трудов своей жизни И. Наживин считал трилогию из истории христианства. Этот творческий замысел Л. Н. Толстой в свое время не одобрил: «трудная, почти неосуществимая задача». Но Наживин не отступился и спустя четверть века, узнав много нового о той эпохе и о человеке вообще, пишет «Евангелие от Фомы», «Иудей» и «Лилии Антиноя». В первом романе автор как бы слился с отображаемой эпохой, он живет, думает и чувствует как житель Иудеи в кипучие и беспокойные времена. Образ Иисуса Христа исполнен поэзии, красоты и человечности. Талант и воображение художника расцветают в рамках сурового реализма, а само распятие, никогда и никем ранее не описанное, потрясает неотвратимостью трагического конца… В центре повествования романа «Иудей» апостол Павел – по мнению Наживина, исказивший в своих проповедях учение Христа. И, наконец, «Лилии Антиноя» – впечатляющая картина крушения и гибели Иудеи, раздавленной Римом.
Трилогия Наживина (в особенности «Евангелие от Фомы») была встречена восторженными откликами в западной и полным замалчиванием в эмигрантской печати: отторжение независимого публициста было перенесено и на даровитого, но свободного писателя. В связи с этим любопытные сведения обнародовал Михаил Филин: ему удалось обнаружить лишь около двадцати рецензий, написанных русскими беженцами на книги И. Наживина (за 20 лет каторжного труда!), между тем только о «Распутине» в одной Германии было опубликовано более 30 отзывов.
А теперь, вслед за М. Филиным, перенесемся в наши дни и зададимся вопросом: почему соотечественники-издатели в конце 80-х и начале 90-х годов в рекордно короткие сроки стотысячными, а то и миллионными и более тиражами наводнили страну книгами Е. Замятина и В. Набокова, Л. Ремизова и Г. Иванова, И. Шмелева и Д. Мережковского, а И. Наживина – «забыли»? [1]Не зеркальное ли это отражение феномена замалчивания его творчества соотечественниками-эмигрантами? Уверен, что это так: все упирается в схожую политическую конъюктуру – идеологическая, государственническая позиция Наживина и художественная сила, с которой она выражена, никоим образом не устраивают многих – и тогда, и ныне.
Идея мощного Отечества – независимой России – ключевая в творчестве И. Ф. Наживина. Он не уставал повторять, что идея патриотизма всегда питала и будет питать русскую литературу, что «в детском и юношеском воспитании на первое место мы должны выдвинуть не тех, кто ловчее освистывает Рос сию, а тех, кто, раскрывая тихую красоту ее, учит нас любить ее и, ценя других, все же ставить ее, как немец свою Германию, über alles»…
В заключение – несколько слов о впервые изданной в России книге, которую вы, дорогой читатель, держите в руках. Общепризнанно, что научно-художественная биография гения русской и мировой литературы еще не написана. «Неопалимая купина» – самое значительное, психологически достоверное повествование о Л. Н. Толстом, его жизни, творчестве, поисках спасительной для человечества волшебной «зеленой палочки». В 1911 году Наживин по праву сказал о том, что на его долю выпало «редкое счастье не только узнать Льва Николаевича близко, но и получить… уголок в его сердце». И сам Наживин проник не только в глубину творений Толстого, но и «заставляет» своего героя распахнуть перед нами свое горящее, и, как неопалимая купина, не сгорающее сердце.
Мир Толстого, как мир гения, – велик, неповторим и противоречив, судьба его – загадка. Наживин помогает нам приоткрыть бездны этой тайны, показывая, как пятидесятилетний, уже увенчанный славой писатель словно выпрямился во весь рост, осмотрелся и увидел все его окружающее по-новому. Отчего жизнь устроена так, что одни купаются в роскоши и богатстве, а другие гибнут в нищете, голоде и холоде? Что делать? Толстой находит выход в главном – в любви, доброте, самосовершенствовании. Вот эта заповедь нам: «… Любить дальних, человечество, народ, желать им добра дело нехитрое… Нет, ты вот ближних-то, ближних полюбить сумей, тех, с которыми встречаешься каждый день, – вот их-то люби, им-то делай добро!». И со многих страниц романа предстает Толстой-добротворец, решительно выступавший против социального неравенства в обществе, жестко требующий от правительства в годы поразившего Россию голода (1891, 1893, 1898 гг.) принятия мер для спасения людей. Он сам помогает крестьянам бедствующих губерний, сам ездит по умирающим деревням и устраивает на свои средства бесплатные столовые для крестьян.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
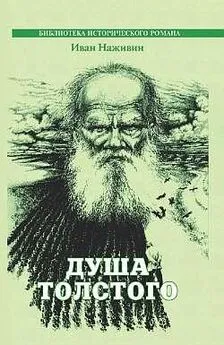
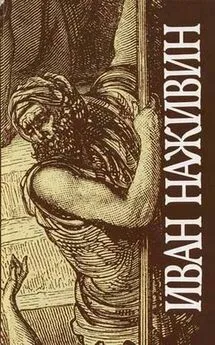
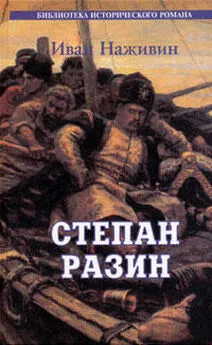
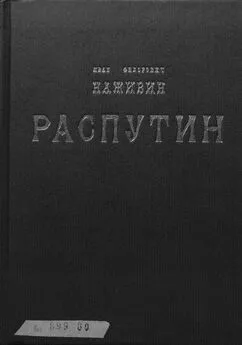
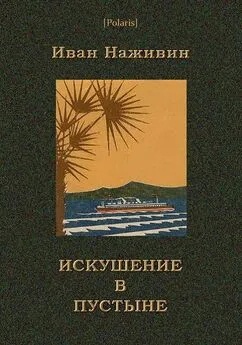
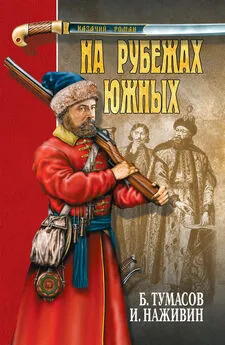
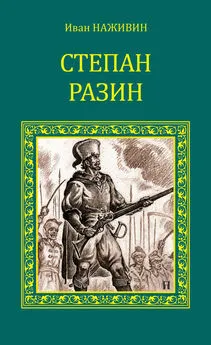
![Иван Наживин - Перун [Лесной роман. Совр. орф.]](/books/1068575/ivan-nazhivin-perun-lesnoj-roman-sovr-orf.webp)