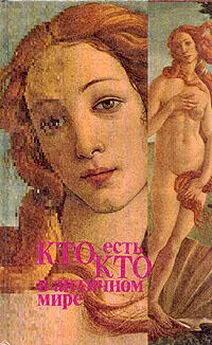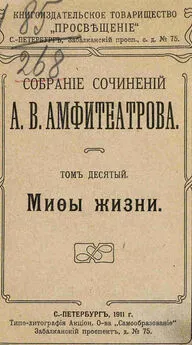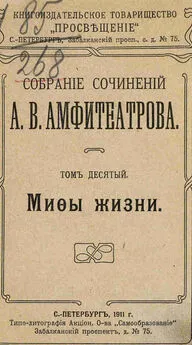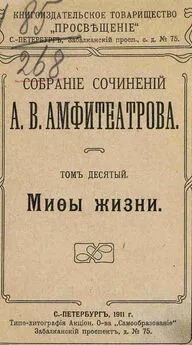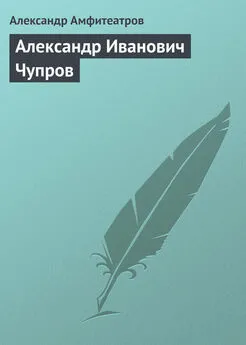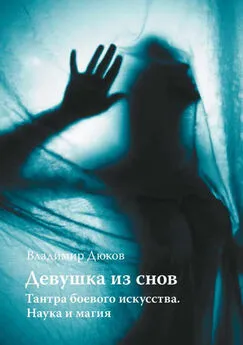Александр Амфитеатров - Наука и магия в античном мире
- Название:Наука и магия в античном мире
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Амфитеатров - Наука и магия в античном мире краткое содержание
Наука и магия в античном мире - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Народное убеждение в способности статуй к перемещению, конечно, питалось не только легендами и видениями суеверов, но и множеством кумиров-автоматов, в изобретении которых античная механика, с лёгкой руки Герона, была, по-видимому, необычайно искусна. О чудотворных статуях, созданных древними мастерами, – говорящих, краснеющих, потеющих, вращающих глазами, кивающих головами, ходящих, летающих, – говорят Лукиан, Авл Геллий, Макробий, христианские легенды о Симоне Волхве, Апокалипсис Иоанна и т. д. Многочисленность разносторонних свидетельств, до известной степени, ручается за возможность факта. Обыкновенное возражение скептиков, будто механика древних не могла производить очень сложных приборов, опирается на то доказательство, что все рабочие и ремесленные орудия, сохранившиеся от античной промышленности, крайне просты, грубы, – можно сказать, первобытны. Оно не исчерпывает вопроса. Каждая эпоха развивает то предложение, на которое имеет наибольший спрос. Первобытность античных ремесленных орудий определяет только то условие, что древние мало нуждались в усовершенствовании механических средств производства. При дешевизне рабского труда, при беспощадных от него требованиях и в количестве, и в достоинстве работы, – имея к тому же для эксплуатации европейскую природу далеко ещё не в столь истощённом виде, как теперь, – античный производитель не старался усилить интенсивность труда искусственною энергиею: раб был выгоднее машины. Ещё Герон учил о движущей силе пара, – однако, до Уатта надо было ждать слишком две тысячи лет, пока настоятельная социальная потребность в новом моторе, сильнее и дешевле человеческих рук, вызвала к промышленной реформе успешного изобретателя. В восемнадцатом веке только Англия могла породить Уатта, потому что его изобретение было ей уже насущно необходимо. Франция, за сто лет до Уатта, посадила его предшественника, Соломона Ко в дом сумасшедших. Если это и легенда, то выразительная: она – символ национального признания, что промышленность Франции, в эпоху Ко, не дозрела ещё до потребности в механических средствах, настолько настойчивой, чтобы, чаемая от изобретения, польза могла победить в глазах века предрассудок исконной традиции против неслыханного нововведения. Словом: если античный мир не имел машин, которыми мы пользуемся, то не следует забывать, что он в них, по характеру производств своих и размерам своего потребления, весьма мало нуждался. Наоборот, мы – не имея столь сильной, постоянной и настойчивой потребности в изящных искусствах, художественной промышленности, в религиозной красоте, в религиозном чуде, какою отличалась древность, – бессильны породить скульптора, способного создать вторую Венеру Милосскую, архитектора, который победил бы творцов Парфенона и Колизея, – быть может, не будет ошибкою прибавить: и механика-специалиста, чтобы возвести на степень древнего совершенства мистические представления и чудеса. Христианские церкви чуждались всего, что могло напомнить народу об изящных, занимательных идолах; они не нуждались в прекрасных, загадочных статуях-автоматах; следовательно, производство последних должно было умереть. И оно, действительно, умерло, как почти на одиннадцать веков, умирала, за ненадобностью, божественная олимпийская скульптура. Да и вполне ли она воскресла? Когда Возрождение начало роднить Европу с преданиями «воскресших богов», то, в числе других оживших искусств, стало было развиваться и производство самодвижущихся фигур: им, в целях религиозных и театральных, занимаются такие люди, как Тритгейм, Корнелий Агриппа, Леонардо да Винчи; слагаются легенды, что в нём достигали удивительных успехов предвестники Возрождения, вроде папы Сильвестра (Герберта) или Альберта Великого. Если оно опять заглохло и вымерло, причину надо искать в гонениях католичества на всё, что его невежественной инквизиции казалось похожим на магию, и в иконоборческой энергии реформации.
Вообще, наука древних цивилизаций – дело спорное и загадочное даже до сего дня. Смешно благоговеть пред её тайнами вслед сторонникам теории Балльи, но вряд ли правильно относиться к её «младенчеству» с презрением современных представителей положительного знания. Какова бы ни была античная культура, она была неизмеримо выше не только средневековья, но и всего Возрождения. Её право не умерло до наших дней, её астрономии хватило Европе до Коперника и Кеплера, причём, однако, и Коперниково открытие имело своих античных предшественников в пифагорейцах Филолае и Архитасе и, особенно, в великом геометре Аристархе Самосском. Числовые периоды пяти главных планет, высчитанные Гиппархом, остаются и посейчас фундаментом планетной астрономии и принимаются современною наукою почти без поправок. В математике мир до сих пор верит Евклиду больше, чем Лобачевскому. Тысячу двести лет надо было жить медицине от Галена до Везалия. Ещё больше промежуток между Аристотелем и Бэконом, – и так ли уж далеко ушли вперёд от логики их Джон Стюарт Милль и Александр Бэн? Мы, русские, греки, славяне. настолько прочно утвердились в пользовании Юлианским календарём, что ещё недавно, при переходе в двадцатый век, провалили увещательные проекты Грегорианской реформы. Пятнадцать столетий изживает Европа остатки этих разрушенных, отвергнутых цивилизаций, и не может изжить. Думаю, что, при зрелище таких прочных и многосодержательных обломков, мы имеем и право, и основание относиться с большим доверием и уважением к гипотезам о мудрости целого, которое они когда-то составляли.
Что касается естествознания, техники, механики, то, смеясь над их бедностью и сомнительностью в античной науке, мы, быть может, слишком много значения придаём таким энциклопедическим писателям, как, например, Плиний Старший, Сенека, Элиан. Между тем, сочинения их – не более, как обширные популяризации общедоступных знаний для малосведущей «общей» публики, и судить по ним об истинном уровне античных наук так же неосновательно, как если бы мы сделали заключительный вывод об успехах современной химии из книжек, издаваемых для первоначального самообразования. Немыслимо предполагать, чтобы знание древних близко подходило к высотам опытных наук прошлого и даже восемнадцатого века. Но нельзя остановиться и на мысли, чтобы знание это ограничивалось теми тесными рамками, которые так легко устанавливаются, если слепо довериться дошедшим до нас свидетельствам, признавая их в букве и, смысле, как последнее слово античной науки, не позволяя себе ни размышлений, ни гипотез, вне их непогрешимого авторитета. Отличительным признаком древней науки был аристократизм её, жречество, сословная тайна. Наука не демократизировалась, не шла в житейский обиход, оставалась силою для немногих избранных людей и для священных целей. И, быть может, в этом последнем назначении, она, действительно, знала больше, чем мы о том осведомлены авторами. Из несомненных чудес-фокусов древней религии многие не могут быть разгаданы средствами науки того времени, поскольку она нам известна. В самом деле, что заставляло летать эти таинственные кумиры? Игрушки, летающие без помощи пара, нагретого воздуха, водорода, и в наши дни не совсем обыкновенны; они возбуждают чуть не суеверное удивление, и опыты с ними собирают полные аудитории любопытных. Что такое светящиеся камни в венцах кумиров, которыми иные храмы освещались ярче, чем днём? Какой свет в состоянии дать подобный эффект, кроме электрического? Мы знаем, что фокусы производились, но почти ничего не знаем о способах производства фокусов. Что наука древности слишком много тратилась на фокусы, этот упрёк не подлежит опровержению. Но чудотворный религиозный культ античных государств, объединённых Римом, требовал фокусов, – и в них не было недостатка. Известны случаи, что верующий, испрашивая у богов пророчества на удачу своего предприятия, не довольствовался одним благоприятным знамением, но, заручившись им, просил подтверждения вторым и третьим. С такими придирчивыми прихожанами, жреческой науке было где и зачем развить свою прикладную специальную изобретательность. Описывая храм Сирийской Богини, равно священный для нескольких культов, Лукиан, скептик и ненавистник богов, насчитал чуть не целое полчище кумиров-автоматов, которых существование повергает нас в такое недоумение, что мы часто предпочитаем вовсе ему не верить. Между тем, Лукиан, как будто, удивлён только скоплением и разнообразием множества их в одном Храме, – о самодвижении их он упоминает равнодушно, вскользь, как о вещи, всем давно известной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: