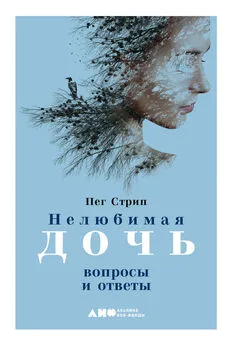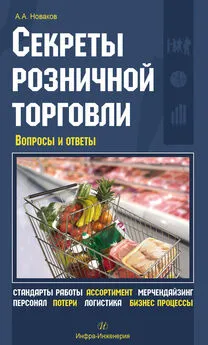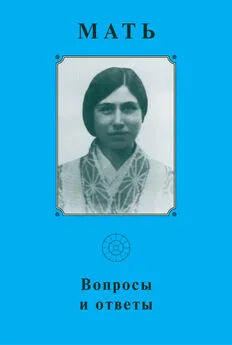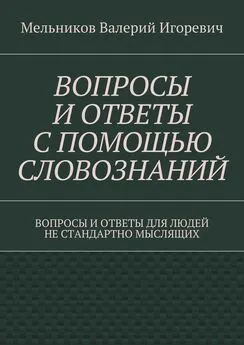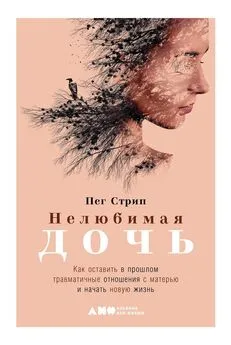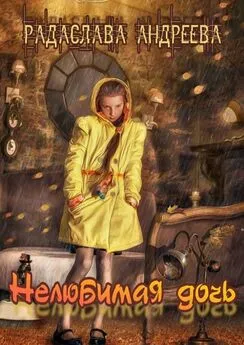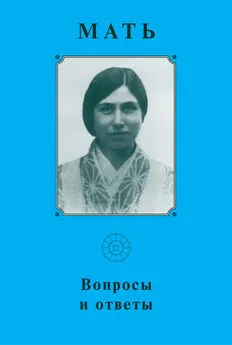Пег Стрип - Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы
- Название:Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9372-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пег Стрип - Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы краткое содержание
Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поэтому ничто и никогда не зависело от вас или от вашей неспособности удовлетворить требованиям матери. Ответственность и обязанности лежат на взрослом человеке, на родителе.
Бывает, родители относятся к своим детям по-разному. Эта распространенная и хорошо изученная схема обозначается аббревиатурой РРО – Разное Родительское Отношение ( англ. – Parental Differential Treatment, PDT) – и встречается даже в любящих семьях. Конечно, что бы ни утверждала наука, культурные мифы настаивают на том, что материнская любовь достается всем детям поровну. Любая мать скорее откусит себе язык, чем признается, что любит своих детей неодинаково. Однако это явление не только распространено, но и очень губительно. Исследования показывают, что РРО продолжает влиять даже на выросших детей, а также на отношения между взрослыми братьями и сестрами. По данным исследований, эмоциональная боль ребенка, видящего, что с сестрой или братом обращаются лучше, чем с ним, воздействует на него больше, чем любовь, которую он получает от этого родителя. Что же делать матери, если она просто любит Элли больше, чем Джеки? Осознанная и заботливая мать упорно добивается от себя одинакового обращения с детьми, потому что знает, что это будет справедливо. Хорошая мать видит, что она делает, и меняет свое поведение, насколько это возможно. Если же мать не любит ребенка, то принимает фаворитизм и травлю как некую данность, что в корне меняет ситуацию.
Итак, вернемся к вопросу о том, что вы могли бы изменить в себе, чтобы завоевать любовь матери. Повторю ответ – ничего, поскольку это никогда от вас не зависело. Отказ от этого вопроса сначала заставит вас почувствовать бессилие и разочарование, поскольку вам нравилась иллюзия контроля, которую он давал. Пока у вас был этот вариант – измениться, была и возможность, по крайней мере в вашемпредставлении, что все можно исправить, и она подпитывала ваше нежелание признать реальное положение дел. Это еще один способ оставаться в замкнутом круге, иногда десятилетиями.
Трудно отказаться от надежды и иллюзии контроля, но порой это необходимо. Ваш случай – как раз такой. Терпите!
3
Виновата ли я в том, что она не любит меня?
Винить себя – естественно для ребенка, и это понятно. В конце концов, наши родители старше, выше, они больше знают и являются бесспорными авторитетами в маленьком мире нашего детства. Следовательно, должно быть что-то, что мы сделали не так, из-за чего нас не любят. К этому выводу ребенка подталкивает то, что он слышит о себе от матери: что он трудный или непослушный, тупой или ленивый, да просто недостаточно хороший. Самообвинения могут преследовать нас и после того, как детство останется позади, особенно когда есть сестры или братья, которых мать, очевидно, любит. Самообвинения поддерживают внутреннее приятие жестокого обращения: мы считаем, что это просто-напросто норма жизни в нашей семье и, скорее всего, в большинстве других семей, – пока не обнаруживаем, что это не так, – и отрицаем, что оно оскорбительно или травматично. Кроме того, самообвинения подпитываются еще и сидящим глубоко внутри стыдом: мы стыдимся своих недостатков и, разумеется, того, что нелюбимы в мире, где каждая мать любит свое дитя.
Судя по данным некоторых исследований, обвинять во всем себя, как и отрицать жестокое обращение, представляется многим лучшей альтернативой. Парадоксально, но факт! Ряд исследований выявили существенную разницу между оценкой жертвами действий как жестоких и научным определением жестокого обращения. Например, в ходе проведенного в 1994 г. крупного опроса, в котором участвовали 11 600 студентов колледжей, только 26 % респондентов, имевших опыт серьезных физических наказаний или дурного обращения (некоторым даже понадобилась медицинская помощь!), были склонны считать это проявлением жестокости. Но как это возможно, чтобы человек страдал от жестокого обращения, тем более со стороны родителя, и не желал открыто называть вещи своими именами?
На этот вопрос взялись ответить Рэйчел Голдсмит и Дженнифер Фрейд. Их исследование призвано было выяснить, испытывают ли люди, подвергшиеся физическому, сексуальному или эмоциональному насилию, проблемы с распознаванием своих чувств. Ответ, что не удивительно, оказался положительным. Выяснилось также, что жертвы эмоционального насилия, в определении исследовательниц, редко называют обращение с ними жестоким. Чем это можно объяснить? Ученые указывают на тот факт, что, поскольку дети, в сущности, прикованы к родному дому, они находят способы приспособиться к враждебному окружению. Их стратегии включают отрицание и диссоциацию [3] Диссоциация – механизм психологической защиты, в результате работы которого человек начинает воспринимать происходящее с ним будто со стороны (я не нахожусь в этой ситуации, я как бы вне ее). – Прим. науч. ред.
: если не пускать угрожающую информацию в сознание, легче выдерживать каждодневный стресс, однако впоследствии это мешает осознанию случившегося. Очевидно, это открытие касается и вас, во многом объясняя, почему вы отрицаете и не спешите признать жестокое обращение со стороны матери или другого лица. Однако еще более ценны выводы ученых относительно того, почему дети склонны объяснять жестокое обращение тем, что они «плохие». Самообвинения, пишут исследовательницы, «блокируют мысль, что попечителю-взрослому нельзя доверять, и дают иллюзию самоконтроля». Опять-таки что может быть страшнее, чем понимание, что тебе небезопасно находиться рядом с тем самым человеком, которому доверена забота о тебе? Это объясняет, почему жертвы жестокого обращения предпочитают винить во всем себя – так менее страшно и есть надежда, что вы сможете все исправить.
Второе исследование ученых, к которому присоединилась Энн Депринс, проводилось в два этапа с промежутком в несколько лет. Респондентов просили определить жестокое обращение. Оказалось, что люди, на первом этапе признавшие, что в детстве подвергались насилию, проявляли более выраженные признаки психологического стресса, чем те, кто этого не сделал. Исследовательницы заинтересовались, почему после сделанного признания стресс усилился. Они захотели узнать больше о том, почему отрицание (и самообвинения) неосознанно становится способом самозащиты.
Ученые обратили внимание на то, что на первом этапе опрашивались первокурсники, только что покинувшие враждебное домашнее окружение и еще не успевшие осмыслить свои детские впечатления. Возможно также, что заданный вопрос – подвергались ли вы жестокому обращению? – подействовал как психологическое вмешательство, подтолкнув к первому шагу, признанию, и таким образом вызвал стресс. Они также отметили, что даже психотерапевты склонны сосредотачиваться на симптомах, скажем тревоге или депрессии, не отслеживая их источник.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: