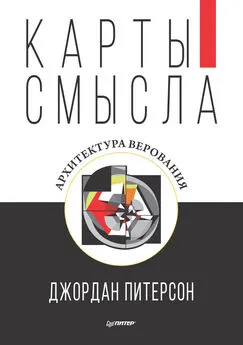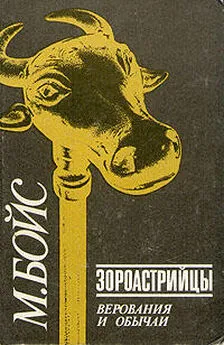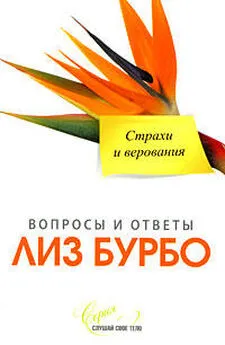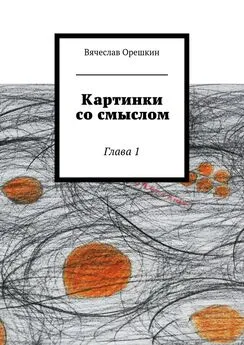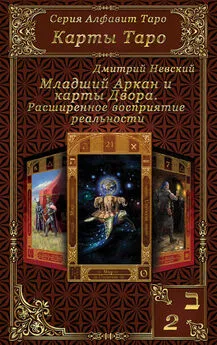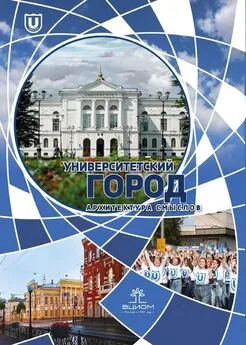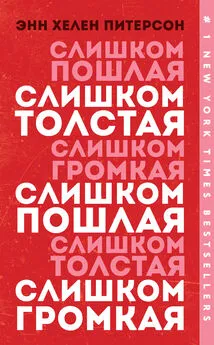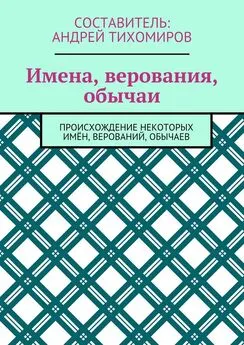Джордан Питерсон - Карты смысла. Архитектура верования
- Название:Карты смысла. Архитектура верования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-4461-1117-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джордан Питерсон - Карты смысла. Архитектура верования краткое содержание
Почему у народов разных культур и эпох схожие по структуре мифы и верования? Что это сходство говорит нам о человеческом сознании и устройстве самого мира?
Отвечая на эти вопросы, Джордан Питерсон устанавливает связь между мифологическими представлениями о мироздании и тем, что современной науке известно о мозге. Новаторская теория автора объединяет нейропсихологию, когнитивные теории, фрейдистский и юнговский подходы к мифологии и повествованию. "Карты смысла" опровергают мнение о примитивности мифологического сознания по сравнению с научным мышлением и открывают для современного критического ума глубокое значение и мудрость мифов.
Настоящее издание – первый, основополагающий труд знаменитого ученого, в котором наиболее полно изложена его оригинальная теория.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.
Карты смысла. Архитектура верования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мы не понимаем донаучного мышления и пытаемся объяснить его в доступных терминах. Получается, что люди отделываются поверхностным толкованием мифа и даже считают его бессмыслицей. В конце концов, мы мыслим научно – так нам кажется – и уверены, что знаем, что это значит (поскольку научное мышление в принципе поддается определению). Мы хорошо понимаем научное мышление, высоко его ценим и вообще склонны считать его мышлением как таковым (идеалом, к которому все другие «формы мысли» в лучшем случае стремятся приблизиться). Но это не совсем так. Мышление, по сути, является мерилом ценности – оно определяет последствия поведения. Это означает, что разделение ценности на категории – определение (или даже восприятие) того, что составляет отдельную вещь или целый класс вещей, – есть процесс их обобщения в зависимости от подтекста поведения .
Шумерская категория неба (Ан), например, – это область явлений, имеющих сходные последствия при совершении поступков или выражении эмоций; то же самое можно сказать о категории земли (Ки) и всех других мифических категориях . «Область Неба» сулит последствия для действия, то есть имеет побудительную значимость. Это делает ее божеством, которое контролирует поведение или которое следует хотя бы почитать.
Эта классификационная система действительно имеет смысл, но чтобы его понять, нужно перестроить мышление (и даже свое отношение к мышлению).
Шумеры прежде всего заботились о том, как действовать (исходя из ценности вещей). Их описания реальности (которым мы приписываем характеристики первичной науки) фактически представляли мир как набор явлений, имеющих смысл , – то есть как арену действий. Они знали об этом – по крайней мере, достоверно — не больше, чем мы. Но они были правы.
Опытные исследования окружающего мира объективно описывают то, что есть , – они определяют, что именно в данном явлении нужно оценить и описать по обоюдному согласию. Исследуемые объекты могут принадлежать к прошлому, настоящему или будущему. Они могут быть динамичными или статичными по своей природе: сто́ящая научная теория позволяет предсказывать и контролировать как становление («преобразование»), так и бытность. Однако с этой точки зрения эмоциональные реакции, возникающие при столкновении с объектом, не являются его частью. Поэтому их следует исключить из дальнейшего рассмотрения (как нечто субъективное) – по крайней мере, из определения реальной характеристики объекта .
Скрупулезное опытное познание, передача информации и сравнение помогают с поразительной точностью выявлять относительно постоянные характеристики окружающего мира. К сожалению, эту полезную методику нельзя применить к определению ценности . С ее помощью нельзя понять, что должно быть , она не укажет конкретного направления, в котором все должно двигаться (то есть не обрисует будущее, к которому мы стремимся, совершая действия). Оценка необходима для принятия нравственных решений. Оценочные исследования помогают направлять эти решения, но определить, правильные они или нет, науке не под силу. В области нравственного нам не хватает столь же убедительного и общепризнанного способа проверки, как опытно-научный способ описания действительности. Без него этот вопрос нам не решить. Человек и общество никогда не перестанут выносить нравственные суждения. И неважно, есть ли в них хоть какая-то необходимость. Действие предполагает оценку или ее скрытый, бессознательный эквивалент. Действовать – буквально значит выбирать определенные возможности из бесконечного числа противопоставленных им альтернатив. Если человек хочет жить, он должен действовать. Действуя, мы оцениваем. Увы, люди не всеведущи, мы вынуждены принимать решения, не располагая нужным количеством информации. И здесь нам на помощь приходят знание добра и зла и нравственное чутье. Наш выбор явно или скрыто определяют устои, рожденные мифологией. Но что это за устои? Как понять, что они действительно существуют? Как понять, что они собой представляют ?
Ф. Ницше в очередной раз указал на современную проблему, выступающую на первый план в вопросах значимости и смысла. Не стоит задаваться давним вопросом о том, «как действовать в границах определенной культуры». Лучше спросить себя, «стоит ли вообще задавать вопрос о том, как действовать», не говоря уже о том, чтобы искать на него ответ:
Именно благодаря тому, что философы морали были знакомы с моральными фактами только в грубых чертах, в произвольном извлечении или в форме случайного сокращения, например в форме нравственности окружающих их людей, своего сословия, своей церкви, духа своего времени, своего климата и пояса, – именно благодаря тому, что они были плохо осведомлены насчет народов, времен, всего прошедшего и даже проявляли мало любознательности в этом отношении, они вовсе и не узрели подлинных проблем морали, которые обнаруживаются только при сравнении многих моралей. Как это ни странно, но всей «науке морали» до сих пор недоставало проблемы самой морали: недоставало подозрения, что здесь есть нечто проблематичное [20].
Эта «проблема морали» – есть ли хоть капля нравственности в каком-либо объективном, общем смысле, и если есть, то как можно ее постичь? – приобрела сейчас первостепенное значение. Технически люди могут делать все, что вздумается (безусловно, мы в силах разрушать; возможно, мы способны творить). Но к этой неограниченной возможности примешивается столь же глубокая неопределенность, поверхностность и путаница в самых важных вопросах жизни. Непрерывные межкультурные связи и способность мыслить критически подорвали веру в традиции наших предков – возможно, не без оснований. Однако человек не может жить без веры – без действия и оценки, – и наука не может заполнить этот пробел. Так или иначе, мы должны во что-то верить. Научная революция завершилась, и мы обратились к другим убеждениям. Действительно ли они сложнее, безопаснее и полнее отвергнутых нами мифов? Общественная идеология, господствовавшая в прошлом веке, на первый взгляд кажется не менее нелепой, чем древние вероучения, которые она вытеснила. К тому же ей недостает той непостижимой тайны, которая всегда сопровождает истинное созидание и художественное творчество. Постулаты фашизма и коммунизма были рациональны, логичны, четко сформулированы, понятны – и катастрофически ошибочны. Сейчас душа мира не рвется на части от нашествия новой массовой идеологии, и все же мы едва ли сумели перерасти легковерность. Возьмем, к примеру, подъем движения нью-эйдж на Западе в качестве компенсации за упадок традиционной духовности. Чем не весомое доказательство того, что в погоне за мелочами мы по-прежнему не замечаем слона?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: