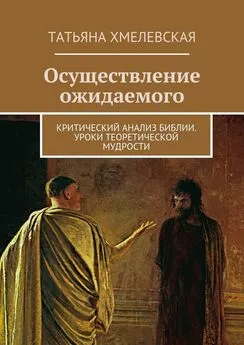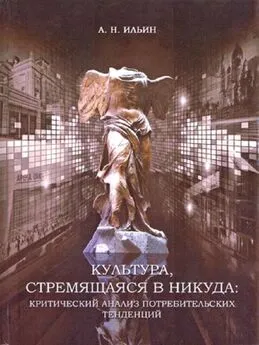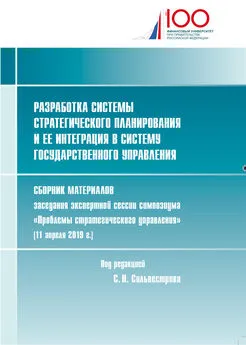Павел Айдаров - Критический анализ системы Станиславского. Сборник статей
- Название:Критический анализ системы Станиславского. Сборник статей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005130556
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Айдаров - Критический анализ системы Станиславского. Сборник статей краткое содержание
Критический анализ системы Станиславского. Сборник статей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теперь посмотрим на практике, как волевое устремление выступает в качестве сверхзадачи. Один из главных примеров, приводимых Станиславским, – это пьеса «Горе от ума» А. Грибоедова. Если мы попробуем определить основную идею этой пьесы самостоятельно, не считаясь с трактовкой Станиславского, то на эту роль вполне подходит эпиграф:
Судьба, проказница-шалунья
Определила так сама:
Всем глупым счастье от безумья,
Всем умным – горе от ума.
Смысл данного эпиграфа можно представить и в виде логического закона: «Чем больше человек развивает свой интеллект, тем менее он счастлив». Это всецело соответствует тем событиям, которые разворачиваются в пьесе: умный человек среди глупцов превращается в изгоя, и его даже начинают считать сумасшедшим. Но такое определение сверхзадачи Станиславским отвергается, ибо оно логическое, а значит, рассудочное. Поскольку же сверхзадача должна определяться глаголом, а именно, формулой «хочу…», то в «Горе от ума» он и определяет её соответствующим образом: сверхзадачей становится «Хочу стремиться к свободе!» – основной мотив Чацкого. Однако глагол легко переделать в существительное, превратив «стремиться» в «стремление». Тогда сверхзадачей станет стремление Чацкого к свободе . Тем самым замена в определении сверхзадачи существительного на глагол, в общем-то, не имеет смысла.
Несмотря на то, что Станиславский отрицал рассудочность в определении сверхзадачи, выделение им стремления Чацкого к свободе есть не что иное, как абстракция, порождённая деятельностью рассудка. Тем самым от рассудочности Станиславский никуда не уходит. Скорее, он выступает не против рассудочности как таковой, а против логической формулировки сверхзадачи, но только сам это не осознаёт. Любая попытка свести произведение к основной идее, независимо от того, выражает она волевое устремление или логический закон, уже сама по себе предполагает, что эта идея будет абстрактной. Однако к абстракции можно стремиться только в мышлении, а не в действии . Волевое же устремление связано именно с действием. В этом смысле стремление к свободе, выделяемое Станиславским в качестве основного волеустремления Чацкого, вовсе не является волевым. Вопрос свободы – это не вопрос воли и не вопрос чувств, это вопрос мировоззрения, ценностей, разделяемых человеком и, в конце концов, вопрос её понимания. Что такое свобода, отнюдь не очевидно. Свобода является весьма сложным понятием, которому посвящено немало философских произведений. Свободу можно понимать как «свободу для» или «свободу от» (Э. Фромм), можно понимать как «познанную необходимость» (Немецкая классическая философия) и т. д. Те люди, у которых Чацкий не находит понимания, быть может, к свободе стремятся не меньше, чем он, но только по-другому её понимают…
Если и задаваться вопросом основного волеустремления Чацкого, то его более правильно определить как стремление высказать другим то, что он о них думает . Вернувшись через три года в Москву, Чацкий возмущён господствующими здесь нравами. И это возмущение служит эмоциональной основой его решения – решения всё высказать. Если оформлять это решение в виде «хочу…», то оно будет выглядеть «хочу всё высказать». Решение не молчать, а высказывать – это именно волевое решение, которое переходит в действие. Чувства здесь лежат в основе воли – Станиславский же представлял взаимоотношение воли и чувств лишь противоположным образом.
Теперь посмотрим на три варианта определения сверхзадачи Станиславским в пьесе «Гамлет». Наиболее простой вариант – «Хочу чтить память отца», более углублённый – «Хочу познавать тайны бытия», ещё более глубокий – «Хочу спасать человечество». Ни одно, ни другое, ни третье стремление нельзя назвать волевым, ибо эти стремления опять же очень абстрактны. Во всех трёх случаях, как и в случае стремления Чацкого к свободе, речь идёт о системе ценностей .
Волеустремления к абстракции быть не может – Станиславский смешивает воедино волеустремления и систему ценностей человека. Сводя волеустремление героя к наиболее абстрактному «хочу…», он просто пытается выявить его наивысшую жизненную ценность. Определение системы ценностей героя пьесы, как и его действительных волеустремлений, может быть весьма полезно актёру для понимания характера своего персонажа, однако глобальной ошибкой является попытка непременно выделять в этом характере нечто постоянно доминирующее, ибо характер в таком случае сильно упрощается. В качестве примера приведём произведение, которое регулярно ставится на сценах театров – «Дон Кихот». Исследователь творчества Сервантеса Л. Ю. Шепелевич о главных героях пишет:
«Рыцарь и его оруженосец не были задуманы в виде абстракций для произведения известного тезиса, а являются живыми людьми, жизненные процессы которых совершаются быстро, которые подвергаются влияниям и изменяются под давлением тех или иных обстоятельств… ни в коем случае нельзя искать в характерах героев Сервантеса цельности и однообразия, наоборот, на всём протяжении повествования они развиваются и совершенствуются, проявляя во всяком шагу новые черты, нередко противоречивые» (9, с. 144—145).
Если и к Дон Кихоту, и к Санчо Панса применить систему Станиславского, то их волеустремления полагается свести к чему-то одному. Однако это не только упростит, а значит, и исказит характеры, но и будет противоречить замыслу автора, а от такого противоречия Станиславский сам предостерегал.
Каждый персонаж многогранен, у него есть достоинства и недостатки, внутри него может происходить борьба высоких и низких устремлений, на первое место могут выходить то одни, то другие ценности, он может внутренне стремиться к одному, а делать совсем другое и т. д. Выделение сверхзадачи сильно упрощает характер и делает его неестественным. Точно также упрощается и всё произведение, если сводится к какому-то единственному устремлению.
Сверхзадачу Станиславский иллюстрирует прямой сплошной линией, проходящей сквозь весь спектакль. Однако развёртывание только одной линии придаст пьесе монотонность, наиболее важные моменты в таком случае будут лишены выразительности. Станиславский выступает против посторонних тенденций в пьесе, однако автором они зачастую вносятся сознательно, чтобы отвлечь зрителя в другую сторону и тем самым освежить его восприятие при возвращении к основной теме. Необходимость сплошной линии сквозного действия Станиславский аргументирует тем, что в противном случае пьеса будет «разорвана на куски», т. е. будет отсутствовать целостность спектакля. Однако одна единственная нить не может обеспечить целостность произведения. Чтобы произведение имело характер целостности, требуется большое множество внутренних связей, которые должны «прошивать» его в самых разных направлениях. Большое значение для целостности произведения имеет и совершенство формы , обеспечивающее композиционную согласованность всех элементов. Понятие же формы, столь важное для всех видов искусства, в системе Станиславского вообще отсутствует.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: