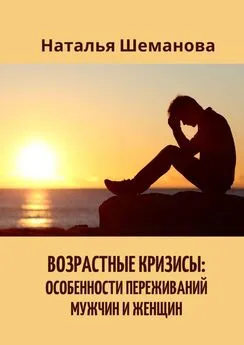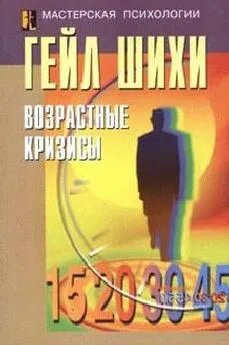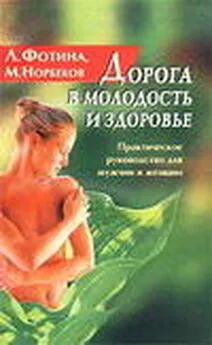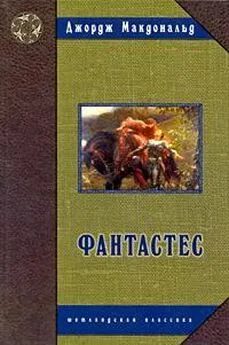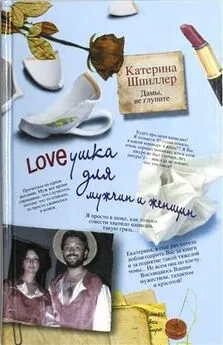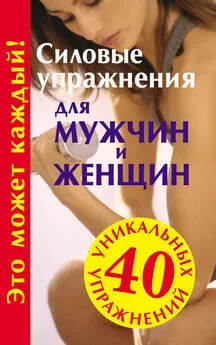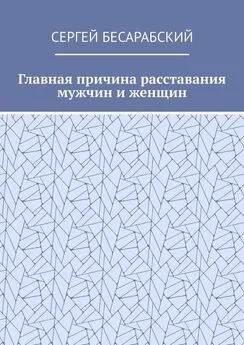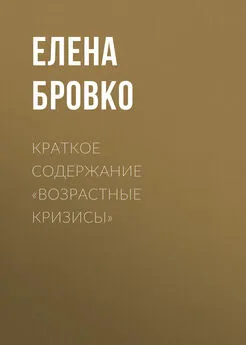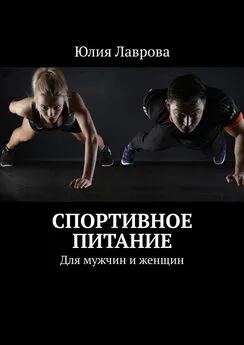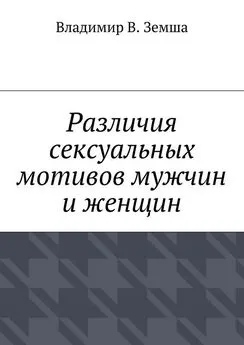Наталья Шеманова - Возрастные кризисы: особенности переживаний мужчин и женщин
- Название:Возрастные кризисы: особенности переживаний мужчин и женщин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005335173
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Шеманова - Возрастные кризисы: особенности переживаний мужчин и женщин краткое содержание
Возрастные кризисы: особенности переживаний мужчин и женщин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В. В. Нуркова и К. Н. Василевская исследовали и описали переживание возрастной перспективы человека, возникающей в трудной для него жизненной ситуации предварительного тюремного заключения. Тюремное заключение разделяет временную ось биографии на время «до» и «после», причем только «новый» опыт представляется для личности значимым, все же произошедшее до данного события, отвергается: отрицается ценность детства и юности, всего бывшего до личного потрясения. В. В. Нурковой и К. Н. Василевской были описаны три феномена. Первый феномен связан с переносом фокуса активности субъекта, попавшего в трудную ситуацию, на психологическое настоящее, которое лишено преемственности и четкой перспективы. Происходило расширение оперативной составляющей автобиографической памяти, которая, являясь частью прошлого, субъективно переживалось как настоящее. При воспоминании прошлого сокращалось общее количество событий и уменьшался разброс тем. Люди, находящиеся в тюрьме, не вспоминали о таких событиях, как творчество, успехи/неудачи, путешествия, интриги и другие темы. Другим феноменом является утрата детства – события детства не исчезают из памяти, но становятся субъективно менее значимыми, они перестают играть роль ресурса для построения новых жизненных смыслов. Происходит сужение временной трансспективы личности за счет первых лет жизни. Сужение прагматики воспоминаний о детстве заключается в субъективной невозможности использования позитивного детского опыта коммуникации во враждебной среде следственного изолятора, что еще более затрудняют адаптацию. Третий феномен, о котором упоминают авторы – феномен онтологизации настоящего. Он заключается в том, что обычно неуловимый для человека момент настоящего, присутствующий в сознании в качестве «мостика» между прошлым и будущим, у подследственных разворачивается в полноценный жизненный этап, ограниченный, с одной стороны, моментом ареста и, с другой стороны, судебным решением. Настоящее не только разворачивается в жизненный этап, но и каждое событие в нем запечатлевается с точностью до даты и дня недели. Находясь в СИЗО около трех месяцев, заключенный испытывает около четырех важных событий, в то время как находясь на свободе, он оценивает, как правило, только одно важное событие, которое у него произошло за год. Для подследственных характерна негативизация картины будущего в силу его неясности, непредсказуемости, что приводит к обесцениванию прошлого (Нуркова, Василевская, 2003).
Е. И. Головаха и А. А. Кроник подчеркивали важность взаимосвязи прошлого и будущего человека. Психологическое время способно не только ускорять или замедлять свое течение, оно может переживаться непрерывным или прерывистым. Переживание прерывности времени близко с ощущением «конца жизни», а ощущение непрерывности – признак бескризисного течения жизни и преемственности прошлого, настоящего, будущего. Чем глубже человек понимает причины происходящих в настоящее время событий, т.е. связи прошлого и настоящего, и чем теснее происходящее связано с будущими целями, тем больший смысл имеет настоящее, вмещающее и прошлое и будущее. Поэтому суицид возможен при потере ценностей прошлого и будущего, когда из жизни вычеркиваются уже прожитые и непрожитые годы, что возвращает нас к работам В. Франкла, В. И. Красикова и др. авторов того же направления разобранных в прошлой главе. На переживание возрастной перспективы суицидентами могут накладывать отпечаток отвергание ими и негативная оценка актуального половозрастного образа себя (Белопольская, Белопольская, Ткешелашвили, 2009). Было обнаружено, что люди, совершившие суицидальную попытку, значительно более аффективно реагировали на саму процедуру исследования, при этом актуальный для них половозрастной образ оценивался ими негативно, последовательность этапов своего жизненного пути они выстраивали неадекватно, а в качестве привлекательных для них выступали либо регрессивные образы, либо образ смерти.
2.2. Социальные факторы переживания полоролевой идентичности
Важно также рассмотреть исследования, в которых изучались социальные факторы переживания мужчинами и женщинами своей идентичности. Э. Гидденс отмечает, что всего лишь на протяжении одного поколения для женщин приобрело особое значение покидание родительского дома. В предшествующие периоды оставление дома означало просто выход замуж. А затем (конец XIX начало ХХ века) уход из дома приобрело значение шага навстречу эмансипации. Однако, несмотря на такой, приобретенный в ходе социальных изменений акцент, женщины, даже осознавая свой уход из дома как выход в мир, не мыслили (в примерах, приводимых Э. Гидденсом) этот выход вне брака, т.е. вхождения в отношения привязанности с другим. Напротив, для мужчин связи с женщинами идентифицировались с выходом в полный приключений внешний мир, где формирование привязанностей было для них одним из приключений. Э. Гидденс, описывая способность представлять себе будущие отношения с противоположным полом, отмечал, что, когда индивид оставался один на один с собой и только предвосхищал будущие связи, мужчины, как правило, говорили об этом с точки зрения «я», тогда как женские повествования о себе имели тенденцию формулироваться в терминах «мы». Даже речь от первого лица, выявляемая в женских повествованиях определяется скрытым «мы», подразумевая кого-то еще, кто будет «любить и заботиться» и сделает из «меня» «нас» (Гидденс, 2004).
Выводы Э. Гидденса подтверждаются исследованиями В. Е. Кагана. В. Е. Каган отмечал, что у детей дошкольников успешнее осваиваются родовые понятия, такие как – Дядя, Тетя, чем супружеские и родительские. У мальчиков ролевые предпочтения одинаковы по всем изученным аспектам половых ролей, тогда как у девочек существует диссоциация между общеродовыми, с одной стороны, и супружескими и родительскими предпочтениями – с другой: например, девочки хотят быть Тетей, но Мужем или Тетей, но Папой. В своих предпочтениях и мальчики, и девочки обнаруживали достаточно явное когнитивное предпочтение маскулинных ролей: мальчики и мужчины сильнее, смелее, находчивее, у них шире круг возможных форм поведения. Однако от четвертого к седьмому годам жизни резко учащаются проявления эмоционального восприятия своего пола: мальчики чаще говорят о том, что мальчики защищают девочек, играют в шоферов, солдат, пожарников, а девочки – что мальчики хулиганят и играют «мужиков». Согласно В. Е. Кагану, эмоционально-когнитивный диссонанс является механизмом полового формирования. Систему этого диссонанса можно описать как сочетание достаточно типичной для современной культуры маскулинной когнитивной ориентации с эмоциональным предпочтением женского пола (Каган, 2000; Флотская, 2010).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: