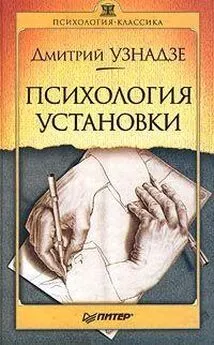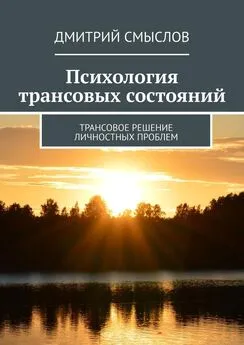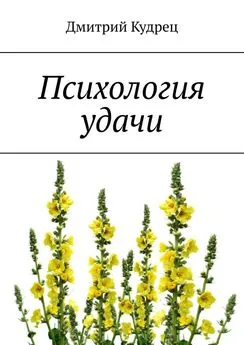Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности
- Название:Психология интеллекта и одаренности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9270-0218-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности краткое содержание
Монография посвящена проблемам интеллекта, творчества, одаренности. В ней представлен современный этап развития структурно-динамической теории интеллекта, предлагается новый подход к исследованию и практической работе в области одаренности. Особое место отводится школе психологии творчества, основанной Я. А. Пономаревым, и сопоставлению сформулированных в ее русле идей с достижениями современных зарубежных исследователей.
Психология интеллекта и одаренности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дункер, сын видного политика, лидера коммунистического профсоюза и сподвижника Э. Тельмана, в дофашистской Веймарской Германии принадлежал к числу «золотой» немецкой молодежи. Чрезвычайно одаренный студент Берлинского университета, он произвел сильное впечатление на Келера и Вертхаймера, был выбран Келером сопровождать его в годовой поездке в США, а затем взят на должность ассистента в Берлинский институт. По существующей в Германии до сегодняшнего дня системе после защиты диссертации (аналога нашей кандидатской) ученому дается 6 лет для подготовки хабилитата (аналога докторской диссертации). Успешная защита хабилитата открывает путь к профессорской должности. В противном случае человек должен покинуть науку как бесперспективный и искать более практическое применение своим знаниям. После 4 лет подготовки Дункер представил хабилитат, но на дворе был уже 1933 г. Хабилитат был отвергнут по причине коммунистических связей Дункера. В 1934 г. с отъездом Келера Дункер лишился серьезной поддержки, в 1935 г. его хабилитат был вторично отвергнут, и он потерял должность в Берлинском институте. Тем не менее, Дункер не хотел эмигрировать ни при каких условиях, пытался открещиваться от коммунистической идеологии, отвергал предложения из-за границы. В 1936 г. он все же уехал – сначала в Великобританию, в Кембридж, где вел исследования по проблеме боли с Ф. Бартлеттом, а затем в США, в Суотморский колледж к Келеру. Немецкий ученый с ранних лет страдал эмоциональным расстройством, в 1940 г. в возрасте 37 лет он покончил с собой. Его родители погибли в концлагере.
Итак, немецкая психология мышления в середине 1930-х годов на фоне личных трагедий многих замечательных ученых фактически прекратила существование. Еще одна волна увольнений прокатилась по немецким психологам уже после войны, когда смещены были сочувствовавшие нацистскому режиму.
Иногда высказывается мнение, что немецкие иммигранты преобразили лицо американской науки. По-видимому, это не вполне справедливо, по крайней мере, в отношении психологии мышления. В довоенный период американская психология сильно отличалась от немецкой по методам, подходам и стилю научной работы. В Германии ценилась философская глубина, в США – точность и четкость проведения исследования [18]. Кстати, эта разница коренилась, по-видимому, не только в отличиях общей культурной атмосферы двух стран, но и в институциональных особенностях. В Германии, в отличие от США, в 1930-е годы еще не произошло организационное обособление психологии от философии. Как это ни парадоксально, университетский диплом по психологии был установлен в Германии уже при фашистах в 1941 г. Кстати, напомним, что в СССР диплом психолога появился уже после войны.
Гештальтисты, вырванные из родного культурного контекста и оказавшиеся в США, пытались соединить свою философскую глубину с американской точностью, однако удавалось это далеко не всегда. Примечательно, что успех в Америке не совпал с иерархией германского периода: например, Левин и Вертхаймер адаптировались лучше, чем Келер. Возможно, дело в определенной степени заключалось в организационных моментах: профессорская позиция Келера (как, кстати, и К. Коффки), хотя и была почетной и хорошо оплачиваемой, все же входила в структуру колледжа (т. е. в переводе на наши реалии работа состояла в обучении студентов младших курсов) и не предполагала руководства работами аспирантов. В результате у него не оказалось прямых научных наследников в США, а его наиболее способные берлинские ассистенты Дункер, фон Ресторф и фон Лауенштейн умерли в молодом возрасте, оставив, правда, о себе память в психологической терминологии: «закон фон Ресторф», «задача Дункера» и т. д.
Больше повезло Вертхаймеру, который в американский период обогатил науку не только тем, что стал для В. Франкла прообразом самоактуализирующейся личности (наряду с Р. Бенедит), но и тем, что руководил работами М. Хенли, впоследствии достаточно авторитетного в США специалиста (Henle, 1962). Однако эти работы посвящены логическому рассуждению, решению силлогизмов, а не тем процессам решения сложных задач, о которых шла речь у Дункера.
Вся совокупность описанных событий сильно сказалась на общем «ландшафте» психологии мышления. Произошел переход от довоенной немецкой глобальной глубокомысленности к значительно более точным, но и в основном более локальным исследованиям. Понятно, что и сила теории, и эмпирическая доказательность представляют собой положительные стороны исследования. Вопрос в том, что выбирается, когда то и другое совместить не удается. Немецкая психология мышления предпочитала теорию, англоязычные послевоенные исследования выбрали эмпирическую точность.
В этом контексте советская психология мышления в целом и Пономарев в частности, оказались фактически в сфере мышления основным центром теоретизирующего направления и наследниками старой немецкой школы. Те теоретические вопросы, которые рассматривались выше в связи с концепцией Пономарева – Платонов парадокс, детерминизм и вероятность, творчество и теория познания, логика и интуиция – в последние полвека нечасто составляли предмет забот западных исследователей психологии творчества и мышления. Зато имел место большой прогресс в плане операционализации и создания точных, в том числе компьютеризированных моделей процессов мышления.
Теория Пономарева дает нам принципиальный каркас, объясняет смысл и назначение логического и интуитивного, объясняет основные характеристики функционирования. Современный когнитивизм позволяет довести это описание до очень конкретного уровня, смоделировать на компьютере, измерить в реальном времени. Задача нижеследующего – состыковать понятия и тем самым сформулировать новые исследовательские проблемы, которые возникают, когда мы связываем точно описанные, но не понятные по смыслу процессы, с описанными в общем, но зато осмысленными.
Проблема механизмов
Представляется, что важная задача состоит в том, чтобы перевести глубокие представления о процессах мышления, развитые Пономаревым, на язык элементарных когнитивных процессов. Сам Яков Александрович обдумывал проблему когнитивных механизмов, лежащих в основе способности действовать в уме, о чем свидетельствуют следующие строки. «Одной из интереснейших задач на пути исследования проблемы умственного развития является разработка конкретного <���…> (прежде всего психолого-физиологического) представления о внутреннем плане действия» (Пономарев, 1976, с. 283). Далее следует гипотетическое рассуждение на эту тему, основывающееся на сообщении И. П. Павлова о том, что афферентные системы клеток двигательной области коры находятся в двусторонних нервных связях со всеми другими системами клеток коры. Следовательно, можно предположить наличие иннервации афферентных зон со стороны эффекторных, благодаря чему формируется функция воображения. Вступление двигательных зон в связь с образованиями «речевой кинестезии» приводит к возможности произвольного управления умственными моделями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: