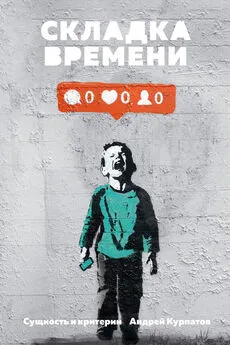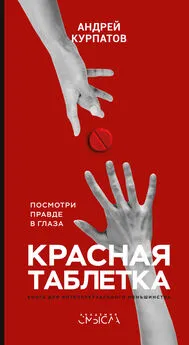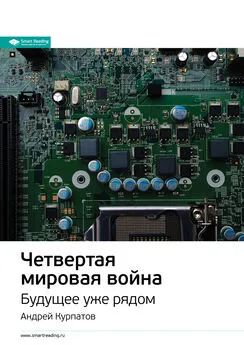Андрей Курпатов - Складка времени. Сущность и критерии
- Название:Складка времени. Сущность и критерии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Трактат
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9907585-6-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Курпатов - Складка времени. Сущность и критерии краткое содержание
Мы странным образом теряем ощущение перспективы.
Образ возможного будущего не проступает, не рисуется.
Сама история – и наша собственная, и цивилизации – рассыпается, теряя свой прежний, когда-то стройный метанарративный облик.
Оказавшись в такой ситуации, мы как будто схлопываемся – ощущаем какую-то внутреннюю пустоту, теряем идентичность. Мы словно бежим, оставаясь на месте.
«Складка» – специфическая «патология» времени. Патология, которая, как часто бывает в медицине, позволяет разглядеть его – времени – истинные и сущностные черты.
Складка времени. Сущность и критерии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Очевидно, что рассматриваемая схема работает, пока речь идет о физиологическом уровне поведения. А вот Кант с антиномиями или, к примеру, какой-нибудь Стравинский и Венская филармония – как с этим быть? Как это-то возникает в мозгу? Иными словами, ситуация тут вчистую, как в логике с ее атомарными пропозициями, или в математике с арифметическими действиями, или, наконец, в физике с законами Ньютона: пока «на мышах» да на высоких уровнях абстракции/обобщения – все более-менее понятно, но как только чуть дальше, чуть сложнее и чуть подробнее – сплошная путаница и ни зги не видать. Как можно объяснить появление желания почитать о какой-нибудь антиномии в «Критике» Канта? И с какой-такой прекрасной «доминирующей мотивацией» оно может быть связано? А почему, как в нашем произвольном примере, в мозгу в качестве «потребного будущего» возникает именно Стравинский и именно Венская филармония? В чем тут фокус? Да и вообще, в каком это нужно быть уме и памяти, чтобы отнести такого рода «желание» к желаниям? Но разве же это не желания, с другой-то стороны?
Развивая данный «парадокс», главный, быть может, инфанттеррибль современной философии Славой Жижек и вовсе вводит понятие интерпассивности: мол, посмотришь на нынешнего человека без романтических очков и гуманистических предрассудков и ясно как белый день, что нет у него на самом-то деле никаких желаний, а хочет за него внешний мир (те самые, видимо, «обстановочная» и «пусковая афферентации») – реклама, телевидение, модные тренды, стереотипы всякие и так далее и тому подобное. И хотят они за него – за человека, и наслаждаются за него, и страдают за него, а сам он – человек – ничто, пустота, дырка, через которую все это туда-сюда протекает [54] Жижек С. Чума фантазий / Пер. с англ. – X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2012.—388 с.
.
Как нетрудно заметить, данная концепция, с одной стороны, прекрасным образом сочетается с тезисом об утрате современным человеком его «идентичности», а с другой – с моей историей про славный корабль «Хасан», на котором я почти физически ощущал, что это не я действую, а мной действуют (если это вообще можно было назвать действием), что меня вроде как и нет вовсе. И, если продолжить теперь эти размышления Славоя Жижека (хотя сам он здесь останавливается), памятуя также о том, что мы уже знаем про «акцептор результата действия» академика Анохина, вполне можно заключить, что мы по преимуществу действительно представляем собой что-то вроде аэродинамической трубы, через которую – «интерпассивно» – проносится все то, что через нее проносится.
То есть наш мозг, по сути, играет роль пассивного физиологического базиса этого священного теперь уже процесса круговращения информации: он – ничего не подозревающий «хозяин» (если пользоваться специальной паразито-логической терминологией), инфицированный «паразитом» по имени «информация» – этим великим новым «ОНО» (© 3. Фрейд) воцарившейся цивилизации. «Господин», ставший «рабом» (© Г.В.Ф. Гегель).
«Никогда не достижимая цель»
Продумаем эту штуку еще раз, чуть более сухо и схематично. Иван Петрович предложил нам такую модель: на нас действуют некие «стимулы», мы на эти «стимулы»
откликаемся и как-то реагируем («реакция»). Далее в упомянутом докладе он допустил, что в мозгу, кроме такой вот детерминистской практики есть еще и другая «все организующая» – некий «рефлекс цели». То есть мы (или что-то в нас) определяем для себя некую цель и организуем (она организует) все наше поведение в соответствии с этой целью. На самом деле, если задуматься, ничего удивительного в таком предположении нет (поэтому, вероятно, и речь Ивана Петровича на Съезде пропитана такой невероятной уверенностью). Более того, было бы даже странно, если бы именно Павлов эту мысль – о «рефлексе цели» – не высказал! Конечно! А как иначе объяснить его собственную профессиональную активность? Разве сам наш замечательный академик и лауреат не был движим всю свою жизнь таким вот «рефлексом» – этой своей «великой целью»? Разве не благодаря этому «рефлексу» он «строил всю жизнь» это «грандиозное здание своей системы»? Разве не является «гениальная смелость и настойчивость» Ивана Петровича, о чем пишет Анохин, прямым следствием этого самого «рефлекса цели»? И пусть «рефлекс цели» не был определен его создателем должным образом, пусть «рефлекс» этот в каком-то смысле просто химера, но какой-то же психический механизм, хотел того Иван Петрович или нет, подчинил себе все его существо, организовал его неустанный научный поиск!
Причем в случае Павлова это даже не фигура речи – про «неустанный» и тому подобное: неслучайно о смерти академика сложили именно такую легенду – мол, 86-летний смертельно больной старик собрал вокруг себя учеников, чтобы диктовать им объективно научный самоотчет о своем состоянии в процессе умирания… И хотя в действительности это были не ученики, а бригада врачей (лучших, надо заметить, врачей того времени), чистая правда заключается в том, что именно Павлов, и это уже без всякого вымысла, поставил себе верный диагноз, подтвердившийся только на вскрытии.
«Позвольте, но ведь это кора, это кора! Это отек коры!» – восклицал Иван Петрович прямо перед тем, как впасть в забытье, но лучшие врачи-клиницисты (сам Павлов клиницистом не был) отмахнулись. То есть Павлов, даже будучи в состоянии отека коры головного мозга, этой самой отекшей корой поставил себе верный диагноз. Причем, что особенно важно, Иван Петрович поставил себе именно тот диагноз, который находился в плоскости его всежизненного научного поиска, в пространстве его «цели». Кажется, что какие-либо дополнительные аргументы здесь излишни. Впрочем, есть еще два последних слова, произнесенных Иваном Петровичем перед самой смертью: «Вставать, одеваться!». Это ли не рефлекс цели?.. И если нет, то что это тогда?
Впрочем, именно тут у академика Павлова, как абсолютно точно пишет Петр Кузьмич Анохин, возникла методологическая проблема – а что это за «цель», откуда она берется, как родится, с чего? На помощь своему учителю, как мы уже знаем, приходит сам Анохин и постулирует (открывает) особый психический механизм целеполагания – «акцептор результата действия». Но давайте присмотримся к нему повнимательнее: «цель» в работах Анохина представляет собой лишь компиляцию определенных «мотиваций» и «афферентаций» (то есть тех же «стимулов» – внешних и внутренних), складывающихся в мозгу человека (или другого животного) в некую картинку, план, «потребное будущее». Иными словами, речь не идет о какой-то свободе от детерминизма – просто ситуация теперь сложнее, как с тем же Ньютоном (Эйнштейн не отрицает законы Ньютона, не подвергает сомнению силу всемирного тяготения – наоборот, он усложняет и детализирует реальность, которую физика Ньютона в какой-то части действительно описывает). Так что главный вопрос остается открытым: как мозг решает (понимает, изобретает), какое будущее для него «потребно», а какое нет (если речь, конечно, не идет об элементарной, генетически запрограммированной физиологии)?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: