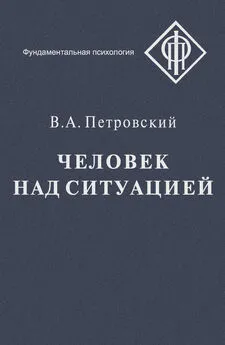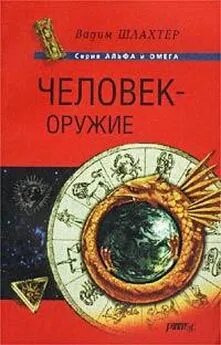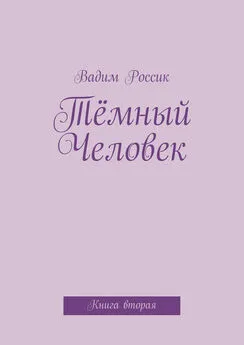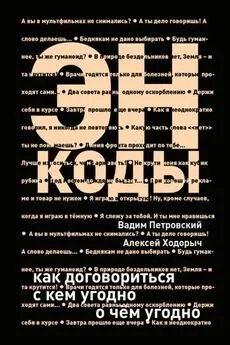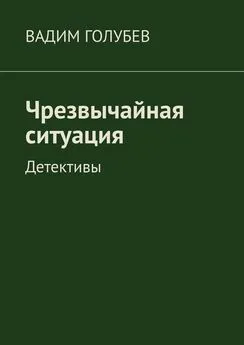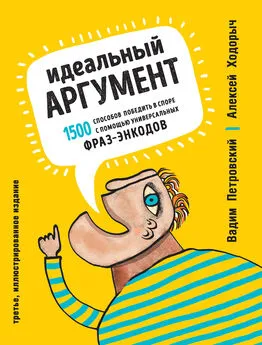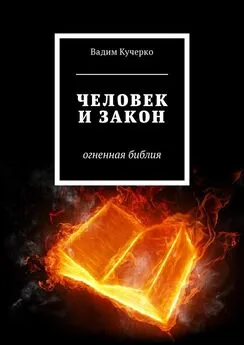Вадим Петровский - Человек над ситуацией
- Название:Человек над ситуацией
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89357-408-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Петровский - Человек над ситуацией краткое содержание
После выхода первого издания автор был удостоен премии НИУ ВШЭ «Золотая вышка-2011» за достижения в науке.
Книга будет с интересом прочитана профессиональными психологами, философами, логиками, специалистами в области моделирования поведения и сознания.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Человек над ситуацией - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поведение человека, по-видимому, не может быть сведено к проявлениям какого-либо одного, пусть фундаментального, жизненного отношения.
В рамках гомеостатических представлений не могут быть осмыслены факты развития системы: не виден и путь объяснения феноменов «активного неравновесия» субъекта со средой, стремления действовать на определенном уровне напряжения и т. п.
Концепции прагматического типа бессильны интерпретировать факты бескорыстия, альтруизма и т. п. Кроме того, мы находим постоянные подтверждения тому, что прагматические идеалы как бы восстают против самих себя, ибо ни человеческий, ни природный мир «не прощают» потребительского отношения к своим богатствам. Принятие прагматических идеалов за исходное ведет к неблагоприятным, в частности и с самой прагматической точки зрения, последствиям. В гедонистические концепции «не вписываются» такие собственно человеческие переживания, как чувство вины, ностальгия, стыд и т. п. Переживания эти способны подчинить себе весь строй жизни личности и в определенных условиях запечатлеться в субъекте в виде негаснущих очагов страдания. Трудно не посчитаться с этими фактами, имеющими отнюдь не «рудиментарный» и не «патологический» характер, при оценке взгляда на стремление к удовольствию как основе организации психической деятельности субъекта [7] Отметим, что в трактовке З. Фрейда не принцип удовольствия подчинен принципу реальности, а принцип реальности состоит на службе у принципа удовольствия.
. Но, может быть, говоря о гедонистических ориентациях, следует иметь в виду, прежде всего, нормативный план, определяющийся ответом на вопрос о том, к чему должен стремиться субъект? Тогда, приняв гедонистический идеал за конечную цель, следовало бы отбросить все, что не имеет отношения к этой цели как неадаптивное и потому – излишнее. Анализ показывает, однако, что подобный перевод принципов гедонизма из сферы действия естественных закономерностей в нормативную сферу не может реабилитировать гедонистический идеал. Возведение известных удовольствий в культ приводит к нравственному опустошению и к катастрофическому – с точки зрения самого гедонизма – финалу: обеднению или извращению само́й чувственной сферы субъекта, таким образом, гедонистический принцип так же, как и прагматический, снимает себя изнутри.
Ни одной конечной ценности (будь то равновесие, удовольствие, успех, польза и т. д.) недостаточно для описания и интерпретации фактов. Но, может быть, все дело – в необходимости совместить в пределах одной концептуальной схемы все эти ориентации, предварительно пополнить их число, и тогда-то поведение и психические процессы субъекта смогут быть представлены как «вполне адаптивные»?
Ответ на этот вопрос составляет вторую ступень анализа. Постулат сообразности – это принцип, утверждающий существование жесткого соответствия между исходными жизненными отношениями субъекта и реализующими их психическими процессами и поведенческими актами. Поэтому норма активности, как это непосредственно следует из постулата, определяется степенью соответствия усилий, необходимых для реализации исходных отношений (мотивов, целей и т. д.), и усилий, которые фактически затрачивает субъект (вспомним «принцип наименьшего действия»). Иными словами, индивидууму якобы должна быть присуща тенденция элиминировать все те моменты, которые прямо или косвенно не ведут к достижению конечного благоприятного результата.
Пусть несколько шутливой иллюстрацией к сказанному послужит следующая, вполне типичная жизненная ситуация. Представим себе большую (по современным понятиям) семью: отец, мать, дедушка, двое детей. Впереди – семейное торжество, ждут гостей, каждый из домочадцев по-своему готовится к вечеру. У каждого свое дело, свой стиль поведения. Отец семейства хорошо знает, чего от него ждут. За ним в семье прочно утвердились почетные роли министра финансов (субсидирование этого и подобных мероприятий), министра торговли (посещение местных торговых точек), министра иностранных дел (приглашение гостей). Сделав необходимые телефонные звонки, муж выключает телефон, бреется и, не прикасаясь к газете, прикидывает приветственный спич. Рациональность («сообразность») его поведения не вызывает сомнений. Между тем, жена также не теряет времени даром. Квартира сияет. Готовка в разгаре. Нервничает: «Вот-вот придут!» Под рев детей выключается телевизор (это нервирует), с детей снимаются роликовые коньки (это тоже нервирует), младшего выставляют гулять, старшего превращают в «маминого помощника», и он теперь помогает маме готовить ореховый торт. Поведение жены также вполне адаптивно, и, кроме того, мы хорошо видим, как она борется со своими отвлечениями. Старший сын с удовольствием колет орехи, разбивая их ребром ладони, как того требует японская система борьбы «карате-до». Извлекая орехи из скорлупы, направляет их преимущественно в рот, чем наносит ущерб шедевру кулинарного искусства матери, за что его торжественно выдворяют из кухни и направляют на улицу к младшему. Поведение старшего расценивается как возмутительное («неадаптивное»). Дедушка тем временем читает «Неделю», и ему именно в данный момент представляется важным поделиться со всеми свежими новостями. Поведение дедушки, конечно, никуда не годится («несообразное, нелепое»).
Еще раз вернемся к тому, что мы сейчас описали. Несколько «компьютерная» модель поведения отца характеризуется завидным соответствием между тем, что он в данный момент делает, и тем, что ему нужно делать. Здесь, во-первых, цели отца выражают «интересы семьи», и поэтому его действия вряд ли могли бы показаться хоть кому-нибудь неадаптивными. Кроме того, предполагается, что отец действует в полном согласии с собой, не только внешне, но и внутренне четко следуя своей роли, например, не притязает на портфель (вернее, ремень) министра просвещения, хотя в другой ситуации роликовые коньки или ореховый торт не прошли бы кому-то даром. В поведении жены заметны отвлечения, но она их благополучно преодолевает, и в этом смысле ее действия вполне отвечают привычным представлениям о норме поведения (приличествующего случаю). Поведение детей (телевизор, ролики, каратэ, съеденные орехи) несообразно в основном в глазах взрослых, но вполне естественно, если взглянуть на него глазами детей («Такая интересная передача!», «Что, если я немного покатаюсь?», «Разве у меня плохо получается, когда я колю орехи рукой?», «В конце концов, я только хотел попробовать!»). Поведение дедушки можно было бы списать на его годы, если бы по утрам он не бегал трусцой и не был внештатным корреспондентом злосчастной «Недели». Кроме того: «Вы же ничего не читаете, вы не знаете, что происходит в мире!» Большинство членов семьи, по крайней мере, на уровне декларируемых побуждений, пусть на небольшом отрезке пути, действовало в одном направлении. «Неадаптивность» заключалась в том, что у некоторых участников этой ситуации намечался сдвиг побуждений или намерений от групповой цели к индивидуальной. Такой сдвиг возвращал их в лоно собственных побуждений, по отношению к которым их поведение могло бы рассматриваться как вполне адаптивное. Норма индивидуальной активности (заключающаяся здесь в отсечении всего, что не относится к делу, к «коренным» интересам) оказывалась при этом нетронутой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: