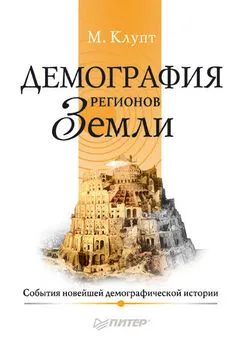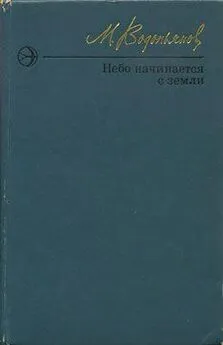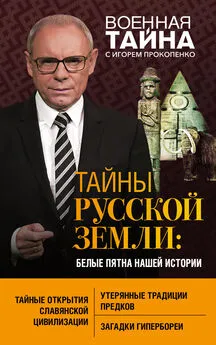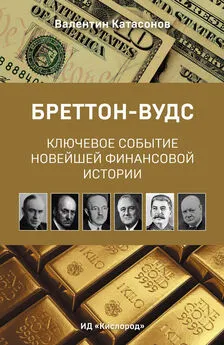Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории
- Название:Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91180-584-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории краткое содержание
Эта книга – рассказ о важнейших событиях новейшей демографической истории Земли. Читатель сможет познакомиться с новыми моделями демографического поведения, характерными для жителей США, Западной и Восточной Европы, Италии и Испании, Индии и Китая и других регионов мира, узнать об изменениях в их жизненном цикле (вступление в самостоятельную жизнь, интимные отношения и брак, контрацептивная революция, рождение детей, жизнь и смерть), о причинах этих изменений, а также познакомиться с проблемами и теориями, эти изменения отражающими. Значительное место в книге уделено демографическим проблемам современной России и поискам выхода из демографического кризиса. Автор подчеркивает, что игнорирование культурных и социальных различий между регионами нельзя безнаказанно игнорировать, а методы политики бездумно импортировать. Вряд ли стоит долго объяснять, к каким последствиям это нередко приводит и почему данная проблематика столь актуальна для России.
Междисциплинарный характер темы делает книгу интересной для всех, кого по роду профессиональных занятий или в силу личной склонности волнуют проблемы истории, демографии, географии, регионоведения, социологии, политологии, международных отношений.
Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Молодежные бунты и студенческие «оккупации» университетов охватили в 1968 г. и Италию. Вскоре итальянское общество приобрело все черты «общества массового потребления», и сегодня в стране постоянно слышатся жалобы на негативное влияние американской массовой культуры и забвение лучших национальных традиций. Влияние европейской интеграции на все стороны жизни стран Южной Европы тем более не подлежит сомнению. Почему же тогда две новых модели демографического поведения – южноевропейская и западноевропейская – оказалась различными?
Корни различий лежат, на наш взгляд, в несходстве институциональной структуры южноевропейских и западноевропейских обществ. На юге континента новые реалии столкнулись с многовековыми институтами и традициями, среди которых (особенно в Италии) важнейшую роль играют особая роль семейных уз и «слитность» институтов семьи и брака, а также представление о последнем как о единственно легитимной или, по крайней мере, обладающей несомненным приоритетом основе семьи и родительства. На уровне общества в целом сложилась ситуация своеобразного «конкурса» старых институтов и новых реалий, а на уровне отдельного индивида – ситуация выбора между трудно совместимыми социальными нормами и экономическими требованиями.
Результаты такого «конкурса» оказались неожиданными. «Победителями» в нем явились традиции семейственности и «слитности» семьи и брака и одновременно вполне современное стремление к высоким стандартам личного потребления. «Ценой» же, обеспечившей совмещение «традиций» и «новаций», стало снижение рождаемости до уровня значительно более низкого, чем на Севере и Западе Европы.
Анализ южноевропейского демографического феномена, безусловно, способствует постановке ряда теоретических вопросов. Один из них состоит в трактовке места данного феномена в демографической истории. Является ли он неким курьезом, малозначительным исключением из правила или, напротив, одним из многих свидетельств чего-то гораздо более весомого? Второй, более общий вопрос касается роли процессов дивергенции в мировом демографическом развитии. Является ли нарастание различий между регионами исключительно результатом разновременного прохождения ими различных стадий демографического перехода или оно может быть вызвано и иными, не менее фундаментальными причинами?
Отвечая на эти вопросы, еще раз процитируем Д. Норта. «История, – подчеркивает он, – имеет значение не просто потому, что мы можем извлечь уроки из прошлого, но и потому, что настоящее и будущее связаны с прошлым непрерывностью институтов общества». [92]Институциональная структура общества, безусловно, не является чем-то застывшим. Институты не только хранители традиций, но и инструменты адаптации индивида и общества к внешней среде, вследствие чего изменения среды неизбежно сопровождаются появлением новых и отмиранием или изменением старых институтов. Тем не менее, институциональная структура не меняется в одночасье по воле политиков и экономистов – ее состояние в каждый последующий момент в огромной степени определяется предыдущей историей. Преломляя воздействия среды (и одновременно изменяясь под этим воздействием), специфическая институциональная структура генерирует и специфические феномены – политические, экономические, демографические.
Институциональные структуры, их изменения и взаимодействия с внешней средой могут быть как проводниками конвергенции, так и выступать в роли фактора, обусловливающего нарастание региональных различий. Это порождает своеобразную историческую «чересполосицу» – периоды доминирования конвергентных тенденций чередуются с периодами, когда господствует дивергенция.
Теория демографического перехода трактует процессы дивергенции излишне упрощенно – как феномен, порождаемый разновременным прохождением различными регионами тех или иных стадий такого перехода. Подобная трактовка, как показывает демографическое развитие Италии и Испании на протяжении последней четверти ХХ в., далеко не всегда адекватно отражает реальный ход событий. Следуя логике теории демографического перехода, можно было бы скорее ожидать, что рождаемость в Италии и Испании будет меняться по «ирландскому» сценарию – снижаться с некоторым запаздыванием по отношению к остальным странам Северной и Западной Европы. Однако ход событий оказался иным, еще раз показав, сколь ограничены возможности теории демографического перехода при интерпретации демографического развития на уровнях страны и региона.
Возникновение в последние десятилетия новой средиземноморской модели формирования семьи, дивергенция вместо конвергенции кажутся аномальными лишь с позиций демографического универсализма. С точки зрения институциональной теории, подобная ситуация, напротив, представляется вполне объяснимой. Европейская интеграция изменила институциональную структуру южноевропейских обществ, но не превратила ее в копию той, что присуща сегодня (или была присуща вчера) странам Западной или Северной Европы. Своеобразие институциональной структуры, преломляя общие для жителей разных частей континента вызовы, привело к специфическим демографическим ответам. Что в этом удивительного?!
Глава 3
Центральная и Восточная Европа: формации и трансформации
3.1. Динамика продолжительности жизни: в поисках причин исторической драмы
Драматические изменения продолжительности жизни в странах Центральной и Восточной Европы (далее – ЦВЕ) [93]не оставили равнодушными тех, кому близка их судьба. Мнения о причинах таких изменений, как это часто бывает в подобных случаях, оказались различными, порой прямо противоположными. Учитывая это, попытаемся, насколько возможно, отделить факты от их многочисленных интерпретаций.
Факты.Динамика продолжительности жизни в странах Центральной и Восточной Европы распадается на четыре периода:
• рост продолжительности жизни в первые послевоенные десятилетия;
• последовавшая затем стагнация, [94]а в ряде стран медленное снижение продолжительности жизни;
• снижение, часто весьма значительное, продолжительности жизни в начальном периоде рыночных реформ;
• выход из трансформационного кризиса и (за исключением Белоруссии, Молдавии и Украины) последующее повышение продолжительности жизни, в одних странах вполне очевидное, в других едва наметившееся.
Рост продолжительности жизни в первые послевоенные десятилетия привел к тому, что в начале 1960-х страны ЦВЕ практически достигли уровня стран Западной Европы. В 1962 г. в Белоруссии продолжительность жизни мужчин (68,1 года) и женщин (74,8 года), была несколько выше, чем во Франции (66,9 и 73,8 года). Почти не отставали от этих значений Украина (67,3 и 73,6), Чехия (66,9 и 72,9 года), Венгрия (65,6 и 70,0).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: