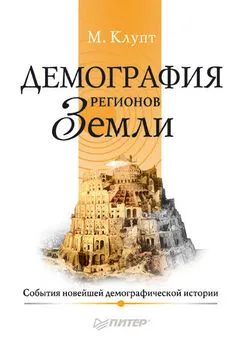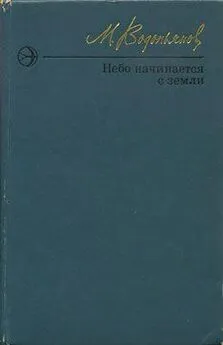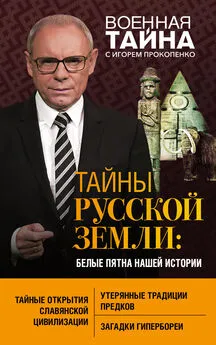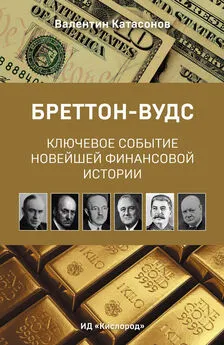Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории
- Название:Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91180-584-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории краткое содержание
Эта книга – рассказ о важнейших событиях новейшей демографической истории Земли. Читатель сможет познакомиться с новыми моделями демографического поведения, характерными для жителей США, Западной и Восточной Европы, Италии и Испании, Индии и Китая и других регионов мира, узнать об изменениях в их жизненном цикле (вступление в самостоятельную жизнь, интимные отношения и брак, контрацептивная революция, рождение детей, жизнь и смерть), о причинах этих изменений, а также познакомиться с проблемами и теориями, эти изменения отражающими. Значительное место в книге уделено демографическим проблемам современной России и поискам выхода из демографического кризиса. Автор подчеркивает, что игнорирование культурных и социальных различий между регионами нельзя безнаказанно игнорировать, а методы политики бездумно импортировать. Вряд ли стоит долго объяснять, к каким последствиям это нередко приводит и почему данная проблематика столь актуальна для России.
Междисциплинарный характер темы делает книгу интересной для всех, кого по роду профессиональных занятий или в силу личной склонности волнуют проблемы истории, демографии, географии, регионоведения, социологии, политологии, международных отношений.
Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теории демографического и эпидемиологического перехода, повторим, задумывались когда-то как истории со счастливым концом. В первой роль happy end отводилась быстрому снижению рождаемости в странах третьего мира. Вторая не предвидела мощной контратаки микромира – возникновения пандемий, вызванных новыми вирусами, и возвращения старых болезней, таких как малярия или туберкулез, теперь уже лекарственно устойчивых и потому еще более опасных. В обоих случаях неявно предполагалось, что глобальный научно-технический прогресс и его медико-биологические плоды всюду окажутся более весомыми, чем «местная специфика» (консервативные обычаи, экономические проблемы, локальные военные конфликты). Игнорировалась и та давно известная истина, что зло было, есть и, вероятно, будет не только пережитком прошлого, но и одним из порождений прогресса. Неудивительно, что реальная история в очередной раз не захотела вмещаться в прокрустово ложе подобных теоретических схем.
Теория эпидемиологического перехода в ее начальной версии трактовала инфекционные болезни как нечто такое, что можно раз и навсегда вычеркнуть из жизни человечества. События последних десятилетий и, в первую очередь, пример Африки южнее Сахары заставляют пересмотреть столь оптимистические взгляды. Сегодня, например, ВОЗ ставит целью уже не искоренение, а лишь ограничение заболеваемости малярией. Как скоро удастся справиться с пандемией СПИДа и не придут ли ей на смену новые пандемии, с уверенностью не может сказать никто.
Современные исследователи все чаще предпочитают избегать трактовки эпидемиологического перехода как истории со счастливым концом, в финале которой люди станут умирать только от болезней глубокой старости. Вместо этого предлагаются различные периодизации ad hoc (для случая – лат.). Говорится, например, не об одном, а о трех эпидемиологических переходах, последний из которых связан с возвращением старых инфекционных болезней и возникновением новых, а также о пяти фазах эпидемиологического перехода, на последней из которых происходит «возврат» старых и появление новых инфекций и т. д. [369]
Хотя лексически подобные схемы как будто сохраняют преемственность с первоначальной версией теории эпидемиологического перехода (данный термин сохраняется в употреблении), методологически они оказываются принципиально иными. В них история борьбы человека с инфекционными болезнями уже не предстает как жестко детерминированный исторический процесс с гарантированным счастливым финалом. Показывается, что влияние глобализации и экономического прогресса на эпидемиологическую обстановку неоднозначно. В определенных случаях (и, в частности, при экологически «грязной» урбанизации и индустриализации сельского хозяйства) такой прогресс может стать если не причиной, то катализатором новых эпидемий. Сам же эпидемиологический переход трактуется просто как последовательность изменений, не обязательно направленных от плохого к хорошему, а от хорошего – к лучшему.
Примирить жесткую стадиальность первоначальной версии теории эпидемиологического перехода с ходом истории пытаются также известные французские демографы. [370]Они предлагают рассматривать эпидемиологический переход «по Омрану» как часть общего процесса – перехода в области [общественного] здоровья (health transition). В предлагаемой французскими демографами концепции допускается возможность того, что страна может одновременно находиться сразу на двух стадиях перехода: например, так и не добившись окончательной победы над инфекциями, значительно продвинуться в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Стадии не обязательно должны следовать одна за другой, в некотором раз и навсегда установленном теоретиками порядке. На смену жесткому детерминизму приходит представление о коридоре возможностей, границы и порядок движения в рамках которого могут быть предсказаны лишь в самых общих чертах.
Глава 8
Обобщая вышесказанное
Материал предыдущих глав заставляет задуматься над тем, почему универсальные, по мнению их создателей, теоретические построения на практике часто оказывались бессильными объяснить особенности конкретного региона. Это, в свою очередь, ставит на повестку дня вопрос о теоретико-методологической альтернативе таким построениям.
Вначале необходимо сделать ряд замечаний методологического характера. Из-за невозможности объять необъятное любая теория довольствуется объяснением (иногда также прогнозированием) только определенного ограниченного круга процессов, явлений и взаимосвязей между ними. Любой теории свойствен редукционизм – намеренно упрощенное представление действительности, выражающееся в акцентированном внимании к одним ее сторонам и абстрагировании от других. Поэтому бессмысленно критиковать идеально построенную и трезво оценивающую свои возможности теорию за то, что она что-то «не охватывает», «не объясняет» или «упрощает». Проблема состоит в том, что в социальных науках столь идеальных теорий не бывает.
Временные, пространственные и предметные границы области, на охват которой претендуют создатели теории, редко оказываются четко и однозначно очерченными. Упрощающие предположения, положенные в основу теории, сознательно или неосознанно маскируются. Адепты теории предпочитают не вспоминать о том, что нарисованная ею картина мира еще не сам мир – всегда более сложный, чем любая его модель. В интересах политической целесообразности и саморекламы теория начинает изъясняться «шершавым языком плаката», непременными свойствами которого являются умолчание об имеющихся противопоказаниях к практическому применению и намеренные преувеличения. Т. Мальтус, например, заключая свое знаменитое сочинение, обрисовал собственные намерения с редкой по нынешним временам откровенностью: «Весьма возможно, что, найдя лук слишком согнутым в одну сторону, я чрезмерно перегнул его в другую, желая выпрямить его». [371]В эпицентре споров о той или иной социальной теории едва ли не всегда оказывается вопрос о соотношении ее «амбиций» и «амуниций», иными словами – об истинных границах той области, в которой данная теория сохраняет свою объяснительную мощь и практическую полезность. Рассмотренные здесь теории не являются в этом отношении исключением.
8.1. Теория без регионов
На протяжении второй половины ХХ столетия во многих регионах Земли наблюдались феномены, необъяснимые с позиций демографических теорий, претендующих на универсальность (табл. 8.1).
Таблица 8.1.Важнейшие демографические феномены второй половины ХХ столетия, необъяснимые теориями демографического перехода и второго демографического перехода
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: