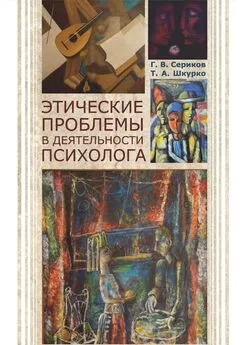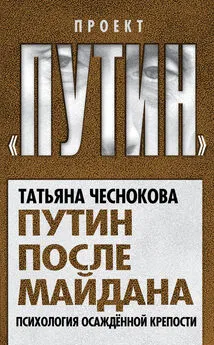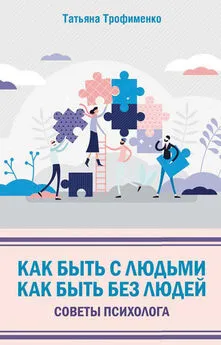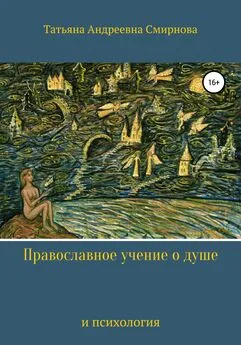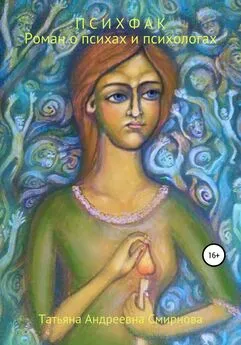Татьяна Шкурко - Этические проблемы в деятельности психолога
- Название:Этические проблемы в деятельности психолога
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-9275-2763-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Шкурко - Этические проблемы в деятельности психолога краткое содержание
Этические проблемы в деятельности психолога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В статьях и книгах отечественных терапевтов рассматриваемого нами периода часто звучали призывы следовать высоким образцам, приводились многочисленные ссылки на высказывания русских писателей и отечественных врачей из прошлого, при этом отсутствовали четко сформулированные этические правила, что, на наш взгляд, оказало влияние и на дальнейшее отношение к этическим проблемам.
В этой связи следует отметить, что ряд современных исследователей, в частности С. Ю. Мазур [30], В. Н. Цапкин [51] и др., считают, что понятия «этика» и «деонтология» в настоящее время рассматриваются как синонимы. Деонтология «поглотила» этику, поскольку именно она описывает то, как должен вести себя специалист при выполнении им своих обязанностей.
Так, В. Н. Цапкину принадлежит следующее высказывание: «Какой учебник по психотерапии обходится без главы о психотерапевтической этике? Однако что же рассматривается в этих главах? Ответ однозначен, в первую очередь вопросы, касающиеся того, что психотерапевту не следует делать (разглашать тайну пациентов, вступать с ними в интимные отношения и т. п.), то есть речь идет о психотерапевтической деонтологии, но не об этике. Такое неразличение практически равнозначно отождествлению действия, которое не переступает черту Уголовного кодекса, с этическим, нравственным поступком» [там же, с. 45].
Вполне понятно желание автора развести данные понятия, добиться терминологической чистоты, однако это вряд ли возможно в науках о человеке, особенно в тех сложных случаях, когда происходит оценка чьего-либо поступка на основе существующих в обществе и индивидуальном сознании моральных ценностей (часто требующих глубокого философского осмысления) как принципов, которые задают поведение человека. Отождествление деонтологии и юридического кодекса можно рассматривать как проявление редукционизма – сведения сложного и неоднозначного явления к более простому и упорядоченному. Деонтология и этика в психотерапии – это не указания, не инструктаж по поводу того, что можно и чего нельзя делать. В ней присутствует анализ причин, приводящих к недопустимым поступкам, оценка тяжести того вреда, который они могут принести и клиенту, и психотерапевту, разбор ситуаций, в которых может произойти нарушение этики, и многое другое, чего мы и коснемся далее, и что получило наиболее полное рассмотрение в русле психоанализа.
Возвращаясь к постановке этических проблем в отечественной психотерапии советского периода, можно предположить, что в это время гораздо интереснее было читать работы известных психотерапевтов и психиатров из социалистических стран, в которых было меньше пафоса и можно было найти ценные высказывания, размышления, иногда, впрочем, не очень оптимистичные.
Одним из таких авторитетных ученых-практиков был Антони Кемпиньский [16] – знаменитый польский психиатр, который в 80-е гг. XX в. в своих книгах, пользовавшихся популярностью в СССР, затрагивал этико-деонтологические аспекты работы врача, часто в экзистенциальном плане. «Как в увлекательной повести, во время бесед перед психиатром проходит история жизни пациента. Врач видит его борьбу с судьбой, которая зачастую является не чем иным, как только закрепленным эмоциональным стереотипом, он видит главных актеров на сцене жизни больного и динамику развития эмоциональных связей между ними и больным. Врач наблюдает, как повторяются основные структуры этих связей, что облегчает ему задачу распознавания лейтмотива отношений с окружающими людьми, но не обедняет богатства самой картины, которую невозможно ограничить никакими схемами индивидуальной судьбы человека. Психиатры с психотерапевтическим подходом порой оправдывают свою неспособность проникнуть в мир переживаний больного его низким интеллектуальным уровнем. Это объяснение свидетельствует, скорее всего, о низком интеллектуальном уровне самих психиатров и их нетерпимом отношении к людям, которые пользуются иным языком и способом выражать свои мысли. Такие психиатры не в состоянии понять никакой другой язык, кроме того, которым пользуются сами. Если есть иной язык, попроще и менее изысканный, они относятся к его носителю пренебрежительно, смотрят на больного сверху вниз, что, естественно, прерывает всякий психиатрический контакт. Даже мир имбецила может быть богатым и представлять ценность для самого изощренного ума. <���…> Психиатр не должен поддаваться магии слова. Бывает, что больной не умеет выразить того, что в нем происходит и что он чувствует по отношению к значимым в его жизни людям. То, что доходит к психиатру в форме словесных высказываний, – это всего лишь неуклюжие бедные формулировки всего богатства переживаний, которые язык выразить не в состоянии, поскольку служит для того, чтобы выражать общее и понятное всем людям, то, что касается вещей повседневных, обыденных. То, что является наиболее личным, а значит, максимально задействует человека эмоционально, не может быть в достаточной степени выражено словами. В этом смысле человек обречен на вечное молчание… Может быть, одна из самых важных задач психиатра – именно в том, чтобы прервать это молчание, когда речь идет об интимном и очень личном» [16, с. 173–174].
Ставил А. Кемпиньский и вопросы, связанные с автономией больного, с принятием им самостоятельного решения. При этом он рассматривал больного как «живой самоуправляемый организм», сложную систему и был против каких-либо форм принуждения.
Одной из трудноразрешимых проблем взаимоотношений больного и врача А. Кемпиньский [17] считал наличие в каждом человеке стремления давать оценку другим людям. По его мнению, сформулированное еще в Евангелии требование не судить другого, трудно осуществимо, поскольку люди очень часто прибегают к подобного рода оценкам своих «подсудимых»: добрые – злые, умные – глупые, симпатичные – неприятные и т. п. Благодаря этому, констатирует автор, «возможной становится основная ориентация в окружающем мире; по отношению к одним, обозначенным знаком плюс, можно приблизиться, а перед другими, со знаком минус, необходимо перейти на другую сторону при встрече с ними или же вести борьбу» [там же, с. 322].
Обосновывая неизбежность подобного рода оценочных суждений («трудно даже после многих лет психиатрической практики подавить в себе дремлющее глубоко в человеке стремление к осуждению»), А. Кемпиньский все же замечает, что «врач не судья и не его дело судить больного и его способы поведения и переживания и оценивать их как добрые или злые. Он может оценить их вредность для здоровья пациента, что, однако, мало помогает» [там же, с. 323–324]. По мнению автора, если в большой психиатрии врач понимает, что во всем виновата болезнь, и больной в этом случае не несет ответственности, то в работе с невротиками (в малой психиатрии) «с этим настроением надо бороться, не допускать к себе негативных оценок больного, несмотря на то что до некоторой степени он отвечает за появление своих патологических состояний. Эта борьба с поставлением оценки и осуждением, а потому и с негативным отношением к больному и приводит к утомлению, какое появляется при контактах с больными неврозами» [там же]. Автор считает, что уход от позиции судьи возможен лишь тогда, когда врач лучше ознакомится с историей жизни пациента, войдет в мир его переживаний.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: