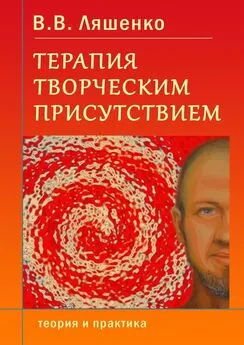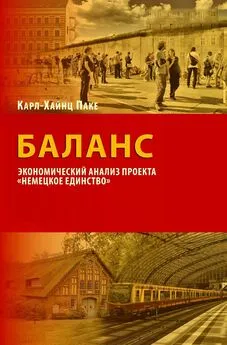Карл Хайнц Бриш - Терапия нарушений привязанности. От теории к практике
- Название:Терапия нарушений привязанности. От теории к практике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89353-363-7, 978-3-608-94532-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Хайнц Бриш - Терапия нарушений привязанности. От теории к практике краткое содержание
В книге с позиции психоанализа рассказывается об опыте применения теории привязанности в клинической практике. Кратко изложена история возникновения теории привязанности, представлены методы и результаты научных исследований по данной проблеме, а также различные подходы к классификации так называемых «нарушений привязанности». Научные выводы подкрепляются описанием отдельных показательных случаев из клинической практики на материале историй болезни всех возрастных групп пациентов. В заключительной части книги рассказывается о возможностях плодотворного практического применения знаний по теории привязанности в таких областях, как профилактика, педагогика, семейная и групповая терапия.
Терапия нарушений привязанности. От теории к практике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Анамнез
Г-жа Г. описала саму себя как «любимицу» своих родителей. По ее словам, они были счастливой семьей; мать она охарактеризовала как готовую прийти на помощь, открытую, благожелательную женщину; отношения с отцом также были описаны как заинтересованные и полные любви. У пациентки был еще брат, на 2 года младше нее, с которым она до сих пор поддерживала «сердечные отношения». У них еще в детстве было много общих интересов и хобби. Все свое детство, время посещения детского сада, школьные годы и дальнейшее обучение пациентка описала как историю сплошных идеальных условий и отношений, исполненных любви. И даже после повторных вопросов нигде не было выявлено ни малейшего намека на какой-либо излом в ее биографии. Лишь попросив привести несколько конкретных примеров этого «чудесного детства» 3, я обратил внимание на то, что ее примеры не отличались конкретикой и по-прежнему были скорее путаными и идеализирующими. В конце концов вся история детства пациентки представала столь «блестящей», что я задумался над тем, что в ней, собственно говоря, не так. Отношения со своим мужем пациентка описала также как идеальные и «просто супер»; она охарактеризовала его как желанного, красивого, энергичного и инициативного в профессиональной деятельности молодого человека; вместе с ним они в настоящее время как раз благодаря поддержке родителей строили собственный дом. Нынешняя беременность была желанной. После завершения строительства и въезда в новый собственный коттедж должен был родиться ребенок. Пациентка никак не могла понять порок развития своего ребенка, потому что она ведь все делала для того, чтобы и беременность, и роды, и ее ребенок были столь же идеальными, как и вся описанная ею прежняя история жизни. Обидам, разочарованиям и подобным отрицательным чувствам в такой истории жизни просто не было места. В изложении пациентки получалось, что описанный дефект развития плода был первой большой неприятностью в ее жизни. Она не могла представить себе, что смогла бы стать счастливой «с таким ребенком». Но поскольку в своих многочисленных фантазиях об «идеальном ребенке» она уже так много и так эмоционально представляла себе своего малыша, ей было очень трудно думать о прерывании беременности, хотя она, как стало ясно из первой беседы, рассматривала это решение как единственный выход из ситуации.
Соображения относительно динамики привязанности
Можно предположить, что г-жа Г. еще в детстве только тогда могла ощущать связь со своими родителями и чувствовать, что у нее есть отношения с ними, когда «все шло идеально», – паттерн, который, возможно, действовал в течение всей ее жизни и продолжал действовать до сих пор. Она должна была быть – и, возможно, действительно была – «любимицей» своих родителей. Привязанность ей «предоставляли» как надежную базу лишь тогда, когда дочь могла идеально соответствовать ожиданиям и представлениям своих родителей. Можно предположить, что все отрицательные чувства, а также не столь идеальные формы поведения и мысли для пациентки (а изначально – для ее родителей) были настолько оскорбительными, что она очень рано научилась отфильтровывать или отрицать их, формируя «ложную самость». Благодаря своим талантам и хорошим функциям Я, г-же Г. в значительной степени удавалось поддерживать картину идеальной себя и идеальных родителей и жить с этим. Когда смотришь на всю эту картину, поверхность ее представляется так гладко отполированной, что я как партнер по социальному взаимодействию во время первичной беседы с пациенткой не переживаю настоящего, непосредственного контакта с ней. Так как она сама в детстве не чувствовала, что ее признают и принимают со всеми ее многочисленными качествами, в том числе с отрицательными и несовершенными, то теперь для нее самой оказывается невозможным эмоционально принять своего ребенка (которого она также хотела бы представить своим родителям как идеального внука) с выявленным пороком развития, а затем настроиться на привязанность к этому ребенку. И все-таки ее потребности привязанности кажутся очень сильными. На этом фоне пациентка уже установила очень интенсивную пренатальную связь со своим ребенком. Поэтому уже одно только представление о прерывании беременности вызывало у нее чувство скорби и такую реакцию, как будто теперь ее саму не принимают и отвергают собственные родители. Собственно говоря, именно она сама в идентификации со своим ребенком чувствует, что родители не примут и отвергнут ее, если она не сможет предстать перед ними с ребенком в «идеальном виде».
Вся эта динамика может рассматриваться, с одной стороны, как нарциссическая проблематика при ярко выраженном нарушении самоценности 4. С позиций динамики привязанности это расстройство может быть понято таким образом, что пациентка получала от своих родителей надежную привязанность, защиту и поддержку только тогда, когда представала перед ними в соответствии с неким идеальным типом, как ожидаемое «любимое дитя», «солнышко». Она опасается, что родители не примут и отвергнут ее, если она сама, а теперь и ее ребенок, с которым она очень сильно идентифицирована, не впишется в этот ожидаемый образ. Поэтому она не может представить себе, что при таком пугающем диагнозе – пороке развития у ребенка – можно обратиться к своим родителям как к надежной базе. Она не хочет говорить с ними об этом диагнозе, в своей фантазии ожидая лишь отвержения и неприятия. Подобный паттерн отношений она установила и со своим мужем – ведь все планирование жизни и свое развитие она до сих пор подводила под описанный идеальный паттерн привязанности.
Ход терапии
С самого начала пациентка довольно интенсивно искала утешения и эмоциональной поддержки, так что было нетрудно предложить ей это на фоне развивающейся надежной базы. Ее фантазии всецело были заняты потерей ребенка и прощанием с ним. Мои интервенции во время первых 20 лечебных сеансов, проходивших дважды в неделю в положении сидя, были нацелены на вопрос, как она может – и может ли вообще – представить себе жизнь с ребенком. Это отклонялось ею как «совершенно невозможное». Постепенно становилось все яснее, что предполагаемое отвержение, которого она так боялась, исходило бы главным образом от ее родителей. Супруг пациентки, напротив, вполне мог представить себе жизнь с этим ребенком, узнав вместе с женой еще в одной беседе с гинекологом подробности о последствиях дефекта развития плода. Такое несогласие в позициях привело к явному конфликту супругов, но пара лишь с трудом могла говорить о нем. Пациентка все больше впадала в депрессию, становилась апатичной, была не в состоянии работать и часами лежала в постели, размышляя о предстоящем прерывании беременности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: