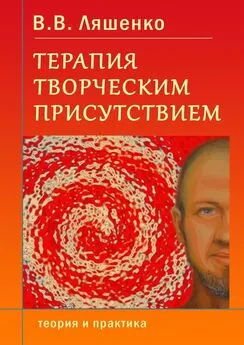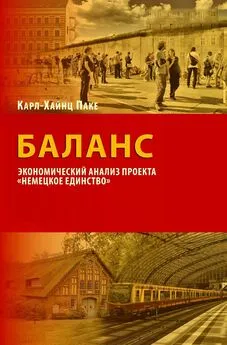Карл Хайнц Бриш - Терапия нарушений привязанности. От теории к практике
- Название:Терапия нарушений привязанности. От теории к практике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89353-363-7, 978-3-608-94532-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Хайнц Бриш - Терапия нарушений привязанности. От теории к практике краткое содержание
В книге с позиции психоанализа рассказывается об опыте применения теории привязанности в клинической практике. Кратко изложена история возникновения теории привязанности, представлены методы и результаты научных исследований по данной проблеме, а также различные подходы к классификации так называемых «нарушений привязанности». Научные выводы подкрепляются описанием отдельных показательных случаев из клинической практики на материале историй болезни всех возрастных групп пациентов. В заключительной части книги рассказывается о возможностях плодотворного практического применения знаний по теории привязанности в таких областях, как профилактика, педагогика, семейная и групповая терапия.
Терапия нарушений привязанности. От теории к практике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Диагностическое наблюдение за игрой
С самого начала лечения я в целях диагностики наблюдаю за игрой М. в течение ряда часов. Мальчик без проблем расстается со своей приемной матерью и идет со мной в уже знакомую ему игровую комнату. Походив по ней в течение некоторого времени, он обнаруживает деревянную железную дорогу. Совершенно спокойно и очень тщательно он соединяет вместе деревянные рельсы, причем начало и конец рельсов не замыкает в круг, а оставляет открытыми на концах. В поезд М. сажает разные фигурки маленьких человечков. Во время поездки по железной дороге они входят в вагон и выходят из него, вываливаются и лежат рядом с рельсами. В конце пути поезд каждый раз сходит с рельсов, так как дальше дороги нет. Поезд опрокидывается; все еще оставшиеся в поезде пассажиры попадают в железнодорожную катастрофу. С тонким чутьем и большим вниманием к деталям М. снова собирает поезд, и игра начинается сначала. Теперь поезд едет в другом направлении, но на другом конце пути снова переворачивается. Во время всей этой многократно повторяющейся сцены М. молчит, не поддерживает со мной зрительного контакта, кажется погруженным в себя и в какой-то свой собственный мир, а также не дает никаких вербальных комментариев к своей игре. Лишь по его жестикуляции и в своем контрпереносе я ощущаю, что М. в высшей степени напряжен. Когда М. в третий раз дает поезду сойти с рельсов, мой комментарий («Ой, бедные люди! Все они опять попали в железнодорожную катастрофу. И кто же им поможет?») он выслушивает без какой-либо видимой реакции.
Соображения относительно динамики привязанности
Я предполагаю, что из-за раннего пренебрежения им матерью-алкоголичкой и из-за его очень нестабильных семейных отношений М. не смог сформировать надежной эмоциональной привязанности. Более того, он не раз переживал непредсказуемые расставания с помещением в больницу, смену приемных семей и ухаживающих за ним взрослых. С точки зрения стороннего наблюдателя, как сообщила и нынешняя приемная мать, М. не проявляет никаких признаков поведения привязанности. Кратковременная эмоциональная реакция на меня в конце нашей первой беседы кажется скорее парадоксальным поведением привязанности, так как по отношению ко мне, к чужому человеку, он продемонстрировал такую реакцию на расставание, которой его приемная мать, очевидно, до сих пор еще не наблюдала. Что касается уровня внутренних рабочих моделей, я предполагаю, что у М. могли быть различные, противоречащие друг другу, неполные или фрагментарные модели. Однако самой стабильной рабочей моделью кажется следующая: не допускать вообще никакой привязанности и полностью уйти в себя. Этот паттерн он проявляет и в часы, когда я наблюдаю за его игрой. Игра в железную дорогу на символическом уровне наглядно показывает, как М. на своем жизненном пути «снова и снова сходит с рельсов», остается без заботы и внимания, а путь в конце рельсов больше никуда не ведет, и все заканчивается катастрофой. Поездка на поезде в противоположном направлении проходит по тому же самому образцу. Можно предположить, что М., которого передавали от одних значимых взрослых и воспитателей к другим, снова и снова чувствовал себя «выпадающим» из привязанностей, отданным кому-то чужому, не получившим в ситуациях расставания достаточной эмоциональной заботы. Я предполагаю, что хотя этот ребенок уже сформировал эмоциональную привязанность к своим нынешним приемным родителям, но из-за своих прежних переживаний не может показать ее, опасаясь, что старый паттерн «выпадения из поезда» может повториться и здесь. Сцена с поездом из-за своей яркой символической выразительности внутренне очень тронула меня и дала мне надежду, что можно будет поработать с М. на символическом уровне, используя игровую терапию. Я интерпретирую его игру в том смысле, что в ней, видимо, проявился спонтанный перенос с надеждой и пожеланиями на привязанность, потому что иначе он не смог бы с таким символизмом выразиться в этой игре. Возможно, эта неосознанная игра выдает его надежду в социальном взаимодействии именно со мной найти выход из этого порочного круга повторяющихся железнодорожных катастроф.
Проблематика привязанности здесь настолько ярко выражена, что конфликты динамики влечений анального или эдипального периода, которые можно было бы ожидать в связи с возрастом ребенка, полностью отходят в данном случае на второй план.
Ход терапии
Все лечение с применением игровой терапии, которое растянулось на 3 года, проводилось с частотой 2–3 часа в неделю. К этому добавились регулярные, иногда еженедельные беседы с приемными родителями.
На первой стадии терапии в центре внимания сначала находилась игра мальчика в уединении. В контрпереносе чувства пустоты и одиночества показывали мне, что я для него совсем не важен, безразличен и даже незаметен.
Если вначале М. предпочитал игрушки из твердых материалов, такие как железная дорога или строительные кубики, то в середине терапии он перешел на игру в песок. Здесь бросалось в глаза, что сначала ему никак не удавалось придать песку форму. В конце концов он стал снова и снова заливать воду в ящик с песком, заполняя его доверху; как если бы его самого катарсически переполняли аффекты, находящиеся под высоким внутренним давлением. Мне кажется, что на этой стадии у М. произошел определенный эмоциональный сдвиг, и он впервые в игре с песком и водой смог воспользоваться предложениями привязанности или помощи в структурировании ситуации, чтобы определить границы и получить душевное равновесие и опору. Я очень беспокоился, потому что после этой стадии, которую с классической точки зрения можно было бы интерпретировать как регрессию, мне пришлось сделать трехнедельный перерыв в терапии из-за отпуска.
Когда после этого перерыва я радостно приветствовал М., он ворвался в кабинет и внезапно стал «приветствовать» меня кулаками, агрессивными выкриками и даже пинками. Это новое воссоединение со вспышкой ярости из-за перерыва в терапии и расставания длилось в общей сложности 20 минут, в течение которых М. почти невозможно было успокоить. В контрпереносе явно чувствовалась тоска по близости, по телесному контакту со мной, который он устанавливал теперь в агрессивной форме. Мне было трудно, с одной стороны, удерживать его физически, с другой – самому защищаться от его неистовых, яростных и бурных, эмоционально заряженных атак, ни на минуту не забывая при этом о его стремлении к близости.
Раньше, не обладая знаниями по теории привязанности, я расценил бы эту вспышку как «кризис нового воссоединения» (согласно теории Маргарет Малер: Mahler et al., 1978) или как проявление ранних архаически-деструктивных импульсов (по теории Мелани Кляйн: Klein, 1983a). А с позиций теории привязанности такое поведение, напротив, вполне можно рассматривать как первую открытую реакцию ребенка на расставание с ярко выраженным поведением привязанности и яростью из-за того, что его покинули. Возможно, что М. показал в своем протесте лишь «верхушку айсберга», только малую часть прежней ярости, агрессии и разочарования по поводу многочисленных пережитых расставаний. Можно предположить, что с течением времени он запретил себе свои чувства, потому что они никак не влияли на расставания, которые происходили по инициативе социальных работников или из-за очередной госпитализации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: