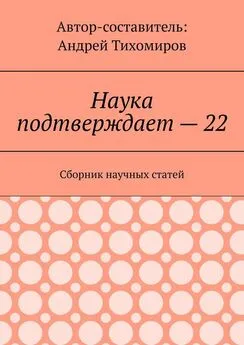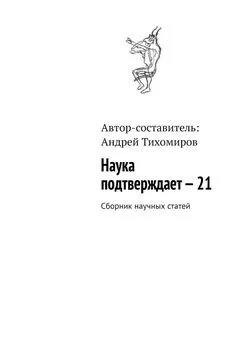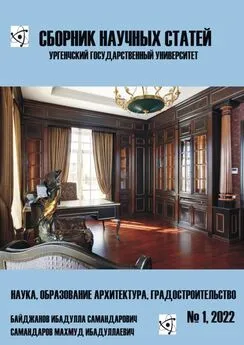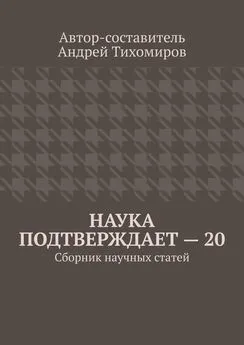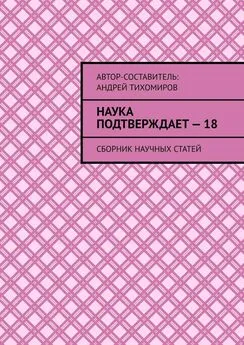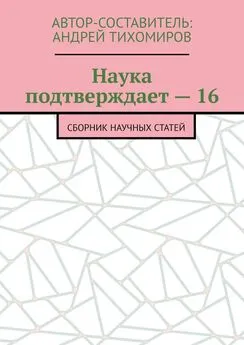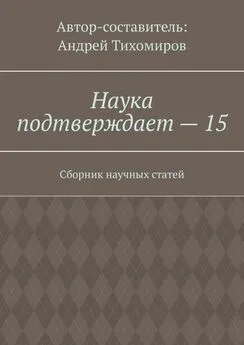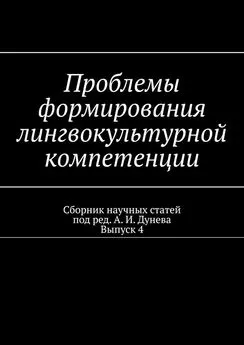Сборник статей - Перспективные направления психологической науки. Сборник научных статей. Выпуск 2
- Название:Перспективные направления психологической науки. Сборник научных статей. Выпуск 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-0961-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сборник статей - Перспективные направления психологической науки. Сборник научных статей. Выпуск 2 краткое содержание
Рассматриваются предпосылки овладения человеком языком и культурой как непременным условием развития и деятельности; обсуждаются временные детерминанты развития самосознания и самореализации личности, ее личностные ресурсы и источники развития самооценки, а также новые модели психологической помощи в ситуациях кризиса на принципах «понимающей психологии». Представлены оригинальные эмпирические исследования молодых ученых и аспирантов, отражающие актуальные проблемы современной психологической науки.
Для практикующих психологов, а также для преподавателей, студентов и аспирантов, изучающих психологию.
Перспективные направления психологической науки. Сборник научных статей. Выпуск 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«И те, кому мы посвящаем опыт, /
До опыта приобрели черты».
Что это за доопытные черты, которые могут служить началом, основанием последующего опыта и развития? Августин был уверен, что свой дар разума, позволивший ему понять слова взрослых, он получил от Бога. Он исходил из того, что это было возможно, поскольку человек был создан по образу Божьему. Равным образом, согласно католическому философу Тресмонтану, Дева Израиля была подготовлена библейской структурой человеческого мышления и языка к тому, чтобы услышать и принять слово Бога. Хорошо теологам! Но что делать психологии, которая должна предложить свое объяснение, как ребенок оказывается способным к принятию даров любви, культуры и слова? Здесь должна быть определенная доопытная готовность, способность и склонность к принятию этих даров. Я не имею в виду так называемые «низшие», натуральные функции. Напротив. Я думаю, что ребенок с самого начала отвечает образу культуры, он наделен возможностью (и обязанностью!) понять и принять культуру, вместить ее в себя. Такая готовность не результат детского развития, но, скорее, совокупность необходимых условий, обеспечивающих принятие даров. Далее я опущу префикс «пра» и буду говорить о первоначале или просто о начале. Обсуждая проблему начала культурного развития, я оставляю в стороне идеи И. Канта об априоризме восприятия перцептивных категорий пространства и времени. Здесь речь идет не о перцепции, а о понимании.
Было немало попыток описать подобные условия. Выражаясь словами Шпета, спросим, что представляет собой чистый родник живого знания, открывающий, уразумевающий внутренний, интимный смысл предметов, его энтелехию, герменейю , наличность в нем цели? Если чувственность, то как преодолеть пропасть, отделяющую ее от разума? Д. Н. Узнадзе видел такое начало в первичной (нефиксированной) установке как в некоем состоянии готовности живого существа к чему-либо, предшествующем психике. В. А. Лефевр – в установке к выбору. О. Мандельштам – в сравнении. А. Н. Леонтьев видел предпсихическое в раздражимости, на основе которой возникают новые формы чувствительности к биологически нейтральным свойствам окружения, начинающим определять поведение живых существ. Многие видели первоначало в ориентировке, в рефлексе «что такое», в любопытстве. Дж. Брунер видел его в первичной категоризации, обеспечивающей готовность к восприятию. Л. С. Выготский ставил в начало натуральные психические функции. П. А. Флоренский, затем Б. Д. Эльконин усматривали начало в претерпевании, Ж. Нюттен – в потенциале действия. Д. Боулби предположил наличие у ребенка генетически запрограммированной готовности к привязанности родителей. Перечень «претендентов» на начало, как и «претендентов» на роль исходной единицы анализа психики может быть продолжен, так как в этой роли перебывали еще не все психические процессы и акты.
Какие бы акты или состояния ни предлагались в качестве доопытного начала, они считались не только непосредственными, но также и натуральными, непроизвольными, примитивными, элементарными, определяемыми физиологическими закономерностями. Именно это послужило основанием борьбы с «роковым» для психологии постулатом непосредственности, начатой Д. Н. Узнадзе и продолженной А. Н. Леонтьевым. Оба, хотя и по разным основаниям, как бы неявно формулируют новый постулат – «постулат опосредованности». Узнадзе, как говорилось выше, в качестве звена, опосредующего человека с миром, ставит установку, Леонтьев – предметную деятельность (см. более подробно: [Зинченко В. П., 2009]). Примечательно, что в книге «Деятельность. Сознание. Личность», написанной уже в 1974 г., Леонтьев противопоставляет деятельность культуре и резко критикует Л. Уайта, развивавшего идею «культурной детерминации» явлений в обществе и в поведении индивидов. Согласно Уайту, возникновение человека и человеческого общества приводит к тому, что прежде прямые, натуральные связи организма со средой становятся опосредованными культурой, развивающейся на базе материального производства. Леонтьев, приводя это положение, видимо, из деликатности, не усмотрел его связи с культурно-исторической теорией Выготского, которая зиждется на идее (принципе, постулате) опосредования [Леонтьев, 1983, т. 2, с. 138–139]. Пожалуй, только С. Л. Рубинштейн и А. В. Запорожец вырывались из круга опосредований к непосредственности, подчеркивая важную роль спонтанности в психическом развитии ребенка. С сожалением приходится констатировать, что психологи, даже осознавая проблему непосредственного начала, не нашли ее решения.
Проблема действительно сложна. Доопытную, априорную непосредственность из-за «пира опосредования» трудно уловить в ее первозданной чистоте. Ведь ребенок получает уроки опосредования с первого дня рождения, и соответственно начинается его вхождение в культуру. При этом, как говорил И. Бродский, «скорость внутреннего прогресса быстрее, чем скорость мира». Поэтому развитие ускользает от постоянного наблюдения. Младенец сензитивен к культуре, она неуловимо быстро захватывает его. Но природная (человеческая!) непосредственность (начало!), если таковая существует, не может быть ни низшей, ни примитивной.
Прислушаемся к М. М. Бахтину, писавшему о начале в нередко свойственном ему лапидарном стиле: «Свести к началу, к древнему невежеству, незнанию – этим думают объяснить и отделаться. Диаметрально противоположная оценка начал(раньше священная, теперь они профанируют). Разная оценка движения вперед: оно мыслится теперь как чистое, бесконечное, беспредельное удаление от начал, как чистый и безвозвратный уход, как движение по прямой линии. Таково же было и представление пространства – абсолютная прямизна. Теория относительности впервые раскрыла возможность иного мышления пространства, допустив кривизну, загиб его на себя самого, и, следовательно, возможность возвращения к началу. Ницшевская идея вечного возвращения. Но это особенно касается ценностной модели становления путимира и человечества в ценностно-метафорическом смысле слова. Теория атома и относительность большого и малого. Две бесконечности – вне и внутри каждого атома и каждого явления» [Бахтин, 1996–2003, т. 5, с. 135]. Далее автор возражает против порочной и упрощенной примитивизации первобытного мышления и резонно замечает, что «не делают контрольной попытки рассмотреть современное мышление на фоне первобытного и оценить его в свете последнего» [Там же]. С тех пор как написаны эти слова, культурная антропология «оправдала» первобытное мышление, зоопсихология и этология – мышление животных. Началось и оправдание «несмышленыша» – «неведомой зверушки», человеческого младенца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: