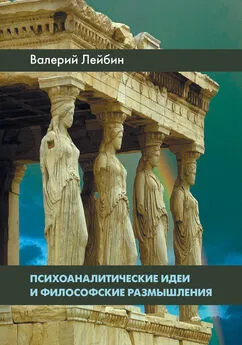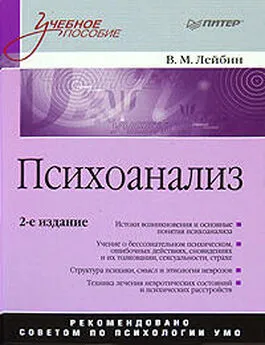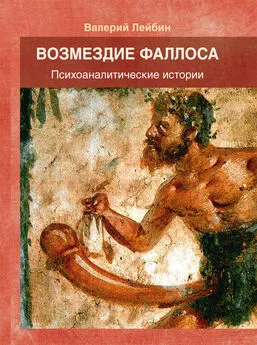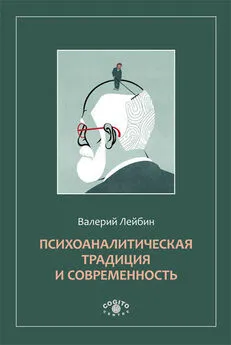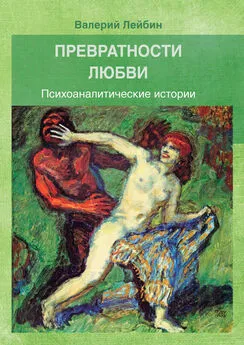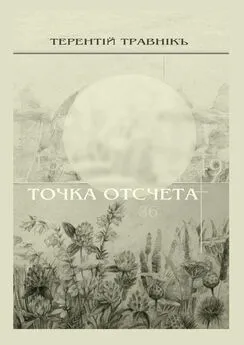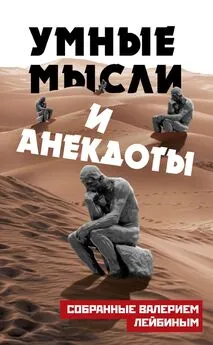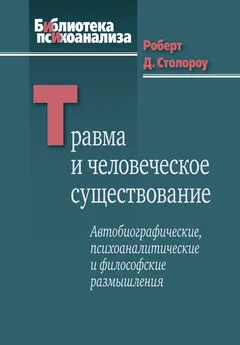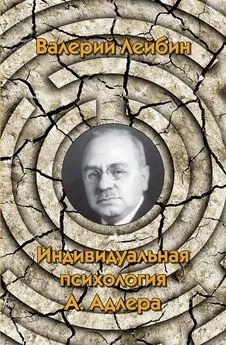Валерий Лейбин - Психоаналитические идеи и философские размышления
- Название:Психоаналитические идеи и философские размышления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Когито-Центр
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89353-508-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Лейбин - Психоаналитические идеи и философские размышления краткое содержание
Психоаналитические идеи и философские размышления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вполне очевидно, что при такой психиатрической практике статистика психических болезней оказывается сомнительной, не отражающей реального положения дел, поскольку она включает в себя, наряду с действительно больными людьми, и тех, чья «болезнь» есть не что иное, как «психиатрический ярлык», навешиваемый врачом-психиатром на ту или иную, подчас здоровую личность.
Хорошей иллюстрацией этого положения дел служит книга Поля де Крюи «Борьба с безумием», в которой в литературном жанре описан контингент психически больных, находящихся в одной из психиатрических клиник, возглавляемых героем книги врачом Джеком Фергюсоном. Когда автор, от имени которого ведется повествование в этой книге, пришел к своему другу в психиатрическую больницу, то между ними произошел следующий разговор:
«К концу моего первого визита в больницу Траверз-Сити Фергюсон спросил меня:
– Как попали сюда все эти больные? Почему их, по-вашему, к нам прислали?
– Как почему? Потому что они психически больны, – ответил я. – Потому что они параноики, или маниакально-депрессивные, или меланхолики.
– Полегче с умными словами, – прервал меня Фергюсон, улыбнувшись на мой залп психиатрических терминов. Он швырнул на конторку пачку исписанных под копирку карточек с теми жалобами, по которым больные были госпитализированы.
– Взгляните вот на это, – сказал он, – и увидите, как вы ошибаетесь.
Я перелистал эти выразительные свидетельства семейных трагедий: „Она срывает с себя одежду“, „Приходится кормить ее с ложечки“, „Она не знает, где находится умывальник“, „Мы всячески стараемся, но не можем содержать ее в чистоте“, „Опасаемся, как бы она не подожгла дом“, „Она непрерывно плачет и молится“, „Она стала невыносимой. Ругает нас. Мы боимся, как бы она нас не убила“.
Фергюсон сказал:
– Вы видите, что их привело сюда только ненормальное поведение.
– Но в их карточках ведь сказано, что они шизофреники, параноики и прочее, – возразил я.
– Это для отчетов, для статистики, – сказал Фергюсон с таким видом, будто это предназначалось для птиц небесных» (Поль де Крюи, 1960, с. 25–26).
Таким образом, статистические данные о количестве психических заболеваний едва ли могут служить доказательством того, что, в отличие от предшествующих исторических эпох, XX столетие является «нервным веком», характеризующимся катастрофическим ростом психических болезней и человеческого безумия. Представляется, что на этой основе вообще невозможно делать какие-либо выводы относительно степени распространения психических аномалий в ту или иную эпоху без предварительного решения вопроса о том, какую личность можно считать «здоровой», а какую – «больной», что является «нормальным», а что – «патологическим». Но строго научного ответа как раз и нет в современной психиатрии.
В начале XX в. некоторые зарубежные ученые, включая профессора Мюнхенского университета О. Бумке, возглавлявшего кафедру психиатрии после смерти всемирно известного психиатра Крапелина, сетовали на неопределенность таких понятий, как «норма» и «патология», и считали, что прежде всего необходимо «добиться соглашения о понятии психопатологического в самой психиатрии» (Бумке, 1926, с. 144). Этаже проблема стоит и перед зарубежными исследователями в настоящее время. По крайней мере, в данном вопросе до сих пор нет ясности, ибо каждый психиатр пытается предложить свое понимание «нормального» и «патологического», претендуя на единственно правильное понимание природы психических болезней и человеческого безумия. Так, по далеко не полным подсчетам В. П. Петленко, сегодня в медицинской, в частности психиатрической, литературе можно встретить около 200 определений «нормы» и «патологии» (Петленко, 1971, с. 177). Очевидно, что при таком разном понимании «нормального» и «патологического» трудно судить о степени распространения человеческого безумия в современном мире.
Не менее трудно проводить и исторические параллели. В самом деле, где тот общий критерий, руководствуясь которым можно было бы определить нормальное и патологическое поведение людей, живущих в разные исторические отрезки времени? Если сегодня один человек убивает другого, то он является преступником в глазах общества и его судят по установленных законам, ибо его поведение коренным образом расходится с общепринятыми нормами дозволенного. Но можно ли, ссылаясь на эти нормы, осуждать человека далекого прошлого за то, что он заживо съел представителя другого племени? С точки зрения цивилизационной эпохи, это – варварство, преступление, патология. С точки зрения же людей того периода, это – обычное, рядовое, нормальное явление. Более того, для члена племени, в котором людоедство представляет собой установленную норму «хорошего» поведения, не есть человека означало бы проявлять «дурной тон», выражать свое несогласие с общепринятой моралью. Такого человека в данном племени объявили бы не иначе как «больным», поскольку, что может быть более человечным, чем акт пожирания своего противника! Только безумный способен отказаться от такой приятной трапезы!
Вопрос, следовательно, заключается вовсе не в том, в какой степени в предшествующие исторические периоды имели место психические болезни, человеческое безумие и насколько чаще, масштабнее они проявляются в настоящее время. Более существенным является вопрос о нормативных критериях определения психических болезней.
Каковы эти критерии? Кто их устанавливает? В чьей компетенции находится право решать, болен человек или здоров, нормальный он или безумный? Какая терапия требуется для излечения психически больного человека, чтобы он вновь мог стать полноценным членом общества?
Как известно, сегодня психиатр является именно тем лицом, которое выносит приговор относительно того, болен человек или нет, и в какой форме у него наблюдается психическое расстройство. Он не только ставит диагноз болезни, именуемой безумием, сумасшествием, в широком смысле этого слова, но и определяет курс лечения, принимает непосредственное участие в восстановлении нормального психического состояния человека.
Однако так было не всегда. Роль и функции целителя человеческой души психиатр стал исполнять сравнительно недавно. Это произошло в конце XVIII— начале XIX в., когда психиатрия выделилась в самостоятельную дисциплину. До этого времени роль и функции психиатра принимали на себя различные люди – от врачей, имевших общее медицинское образование, до священников, шаманов, философов, пытавшихся своими собственными средствами облегчить душу безумца и смягчить страдания сумасшедшего.
В древнем мире целителями выступали, как правило, жрецы и философы. С развитием христианства церковь стала тем институтом, в котором происходило спасение как заблудших душ, так и тех, кто по тем или иным причинам находился в шоковом состоянии, страдал от груза всевозможных переживаний. Если врачи того периода стремились излечить болезни тела, то лечение болезней человеческой души было уделом церкви.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: