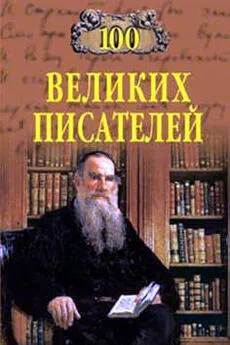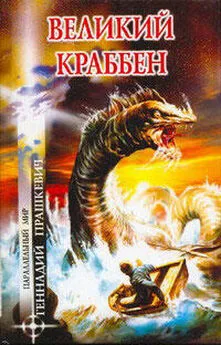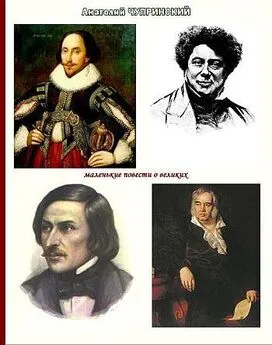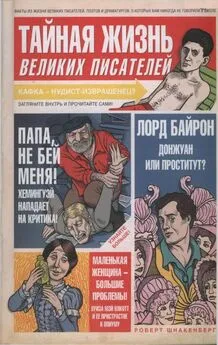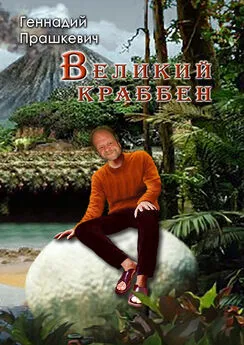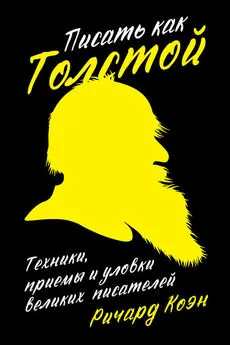Геннадий Иванов - 100 великих писателей
- Название:100 великих писателей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2004
- Город:М.
- ISBN:5-9533-0435-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Иванов - 100 великих писателей краткое содержание
Очередная книга серии «100 великих» посвящена писателям. Этот «золотой список» составили как программные имена, так и те, кто только входит в наш культурный обиход — мастера слова, чьи произведения в полном объеме опубликованы лишь в последние годы, а также писатели русской эмиграции и зарубежные литераторы, кого в подцензурные времена представляли в несколько искаженном виде. В книгу включены новые для российских читателей факты, ставшие известными благодаря пришедшей к нам литературе русского зарубежья, новым критическим и мемуарным публикациям.
100 великих писателей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1860 году в «Современник» пришли новые, более молодые сотрудники — Чернышевский и Добролюбов, насаждавшие свои революционно-демократические взгляды, и в редакции журнала произошел раскол. Некрасов принял сторону новых идеологов «Современника». Тургенев, либерал, противник радикальных общественных перемен, покинул журнал, навсегда разорвав отношения с Некрасовым.
Перу Тургенева принадлежат шесть знаменитых романов: «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), «Дым» (1867), «Новь» (1877). Их называли летописью духовной жизни русской интеллигенции. Между ними написаны «Воспоминания о Белинском» (1860), повести «Степной король Лир» (1870), «Вешние воды» (1870), «Песнь торжествующей любви» (1881), «Стихотворения в прозе» (1882), «Клара Милич» (1883).
В 1870-е годы Тургенев сблизился в Париже с писателями «натуральной школы» — Флобером, Доде, Золя, Мопассаном, которые видели в нем своего учителя. Флобер, получив в подарок от Тургенева его книги, изданные на французском языке, писал в ответ: «…я не могу устоять против желания сказать вам, что я восхищен ими. Уже давно вы для меня учитель. Но чем больше я вас изучаю, тем больше меня изумляет ваш талант. Меня восхищает страстность и в то же время сдержанность вашей манеры письма, симпатия, с какой вы относитесь к маленьким людям и которая насыщает мыслью пейзаж… От ваших произведений исходит терпкий и нежный аромат, чарующая грусть, которая проникает до глубины души. Каким вы обладаете искусством!..» Всемирное признание Тургенева выразилось в том, что его вместе с Виктором Гюго избрали сопредседателем Первого международного конгресса писателей, который состоялся в 1878 году в Париже.
В конце жизни Тургенев дважды побывал на Родине — в 1879 и 1880 годах. И оба раза Россия встречала его овациями. В дни торжеств по случаю открытия памятника Пушкину в Москве речь Тургенева (наряду со знаменитой «Пушкинской речью» Достоевского) стала одним из самых ярких событий.
Незадолго до смерти Тургенев посылает прощальное письмо Льву Толстому, в котором называет его «великим писателем Русской земли» и призывает вернуться к творчеству (в это время Толстой переживал духовный кризис, известный как «опрощение Толстого», когда он отрекался от писательской деятельности).
Иван Сергеевич умирал мучительно — от болезни позвоночника. Страшные боли снимал только морфий, у него появились кошмары: ему казалось, что его отравили, а в ухаживающей за ним Полине Виардо мерещилась леди Макбет. В последние часы своей жизни он уже никого не узнавал. Когда Полина Виардо склонилась над ним, он произнес: «Вот царица из цариц!» Это были его последние слова.
Тургенев умер в Буживале, близ Парижа, 22 августа (3 сентября) 1883 года. Те, кто видел его во время прощания, свидетельствуют, что лицо его было упокоенным и прекрасным как никогда. Похоронен Иван Сергеевич, по его завещанию, в Петербурге на Волковом кладбище рядом с Белинским.
Любовь КалюжнаяАфанасий Афанасьевич Фет
(1820–1892)
На протяжении почти ста лет — половина XIX века и первая половина XX — вокруг творчества Афанасия Афанасьевича Фета шли нешуточные бои. Если одни видели в нем великого лирика и удивлялись, как Лев Толстой: «И откуда у этого… офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов…», то другие, как, например, Салтыков-Щедрин, видели поэтический мир Фета «тесным, однообразным и ограниченным», Михаил Евграфович даже написал, что «слабое присутствие сознания составляет отличительный признак этого полудетского миросозерцания».
Демократы XIX века и большевики XX числили Фета во второстепенных поэтах, потому что, мол, он не общественно значимый поэт, нет у него песен протеста и революционного настроя. Отвечая на такие нападки, Достоевский в свое время написал знаменитую статью «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Он отвечал Н. А. Добролюбову, возглавившему в то время критику и идеологию журнала «Современник» и называвшего «бесполезным» искусство, подобное поэзии Фета.
Достоевский приводит такой пример: «Положим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; дома разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял — или имение, или семью. Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского „Меркурия“ (тогда все издавалось в „Меркурии“). Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то, что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые сведения, сообщить некоторые известия о погибших, о пропавших без вести и проч. и проч. И вдруг — на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца.
Ряд волшебных изменений
Милого лица.
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..
Да еще мало того: тут же, в виде послесловия к поэмке, приложено в прозе всем известное поэтическое правило, что тот не поэт, кто не в состоянии выскочить вниз головой из четвертого этажа (для каких причин? — я до сих пор этого не понимаю; но уж пусть это непременно надо, чтоб быть поэтом; не хочу спорить). Не знаю наверно, как приняли бы свой „Меркурий“ лиссабонцы, но, мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому, что вместо трелей соловья накануне слышались под землей такие трели, а колыханье ручья появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать —
В дымных тучках пурпур розы
или
Отблеск янтаря,
но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни. Разумеется, казнив своего поэта (тоже очень небратски), они… через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за „пурпур розы“ в частности».
Фет всегда был, как нынче говорят, знаковой фигурой. Поэтому для выражения своей мысли Достоевский взял лирическое стихотворение Фета, доказывая, что искусство самоценно само по себе, без прикладного значения, что «польза» уже в том, что оно настоящее искусство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: