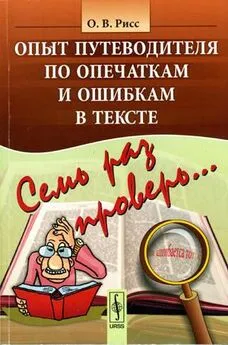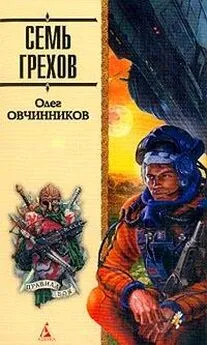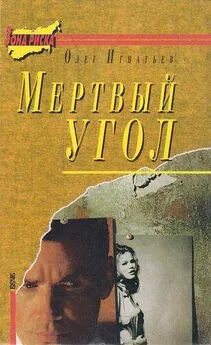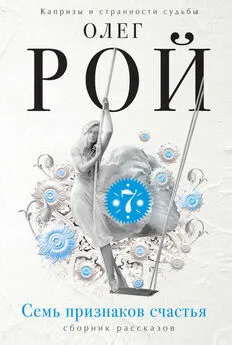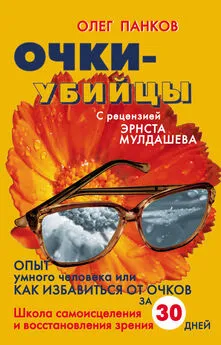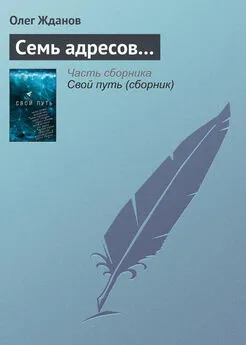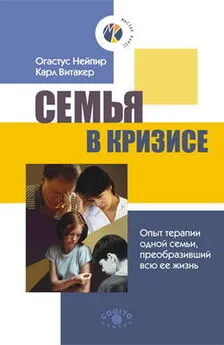Олег Рисс - Семь раз проверь... Опыт путеводителя по опечаткам и ошибкам в тексте
- Название:Семь раз проверь... Опыт путеводителя по опечаткам и ошибкам в тексте
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ЛКИ
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-382-01077-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Рисс - Семь раз проверь... Опыт путеводителя по опечаткам и ошибкам в тексте краткое содержание
Приведенные в книге сведения будут полезны и интересны как непосредственным участникам создания книги — авторам, редакторам, корректорам и т. д., так и самому широкому кругу читателей.
Семь раз проверь... Опыт путеводителя по опечаткам и ошибкам в тексте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Читатель-наблюдатель — это, возможно, высший тип читателя, наиболее рационально использующий ресурсы своего зрительного аппарата, включая зрительную память. Это читатель, который в наибольшей степени развил в себе способность к «визуальному мышлению» (по термину итальянского художника Эудженио Карми, работающего над этой проблемой) [ 121, с. 27]). Яркий, поистине уникальный образец такого читателя-наблюдателя представил профессор А. Р. Лурия в завоевавшей широкую популярность «Маленькой книжке о большой памяти».
Ученый имел возможность долгие годы наблюдать человека с выдающейся памятью. По меткому выражению автора, ум этого человека работал с помощью зрения (у рядовых людей, наоборот, зрение работает с помощью ума). В нем не надо было развивать наблюдательность — она составляла неотъемлемое прирожденное свойство его ума [ 69, с . 54] .
При чтении у мнемониста Ш. возникали настолько яркие и прочные зрительные образы, что он не пропускал ни одной детали в описаниях и часто подмечал противоречия и ошибки, которые ускользали от внимания самих авторов. Так, читая «Хамелеон» Чехова, Ш. мигом запомнил, что полицейский надзиратель Очумелов идет через базарную площадь в новой шинели. Поэтому его сразу поразило несоответствие на следующей странице, когда Очумелов говорит городовому: «Сними-ка, Елдырин, с меня пальто». В начале рассказа «Толстый и тонкий» написано: «Нафанаил немного подумал и снял шапку», а кончается рассказ словами: «Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены».
Подготовленный читатель-наблюдатель, имеющий солидное образование и профессиональные навыки, вероятно, в некоторых отношениях даже превзойдет выдающегося мнемониста, который больше действовал «по наитию», чем посредством определенного метода. Несомненным читателем-наблюдателем был профессор С. А. Венгеров, разглядевший, что в пушкинской рукописи следовало читать «село Горюхино» вместо «Горохино», как печаталось в ряде изданий. Читателем-наблюдателем был академик О.Ю. Шмидт, как бы мимоходом замечавший ошибки в книгах, которые он читал. («Я невольно остаюсь редактором», — говорил Отто Юльевич, тем самым подчеркивая одну из сторон редакторского труда.) Таким же читателем-наблюдателем был крепко запомнившийся Паустовскому корректор одесской газеты «Моряк», бывший редактор сытинской газеты «Русское слово» Ф.И. Благов, который правильно расставил знаки препинания в рассказе Андрея Соболя и превратил раздерганный, спутанный текст в прозрачную, литую прозу.
Решающую роль, как мы видим, играет перемена установки. Французский ученый А. Моль убедительно показал, как видится страница печатного текста «человеку-приемнику» в зависимости от того, кем тот является: художником-графиком, наборщиком-строчником, верстальщиком, корректором или читателем в собственном смысле. Подобное переключение внимания тонко описал в своих «Психологических монографиях» незабываемый К.Д. Ушинский: «Глядя на страницу печатной книги, мы сначала видим только полосатую поверхность, потом строки, потом уже слова и буквы; но обратите ваше внимание на одну черточку какой-нибудь буквы, и вы увидите в ней множество особенностей, которых сначала и не подозревали... Чем более ограничивается поле деятельности внимания, тем ощущение становится яснее; так, чтобы рассмотреть внимательнее очень маленький предмет, например, одну букву, мы закрываем соседние буквы однообразными и одноцветными предметами...» [ 114, с. 390, 393].
Читатель-наблюдатель неизменно следует принципу читать активно, стараясь представить себе ход мысли автора произведения, обращая свой взгляд на такие детали и частности, которые читатели других типов обычно не считают достойными внимания. Этот принцип, который в советской текстологии принято именовать « методом сопереживания », у читателя-наблюдателя, по нашему убеждению, гармонично сочетается с развитой способностью различать смысловые оттенки печатного текста — процессом, который советский психолог Л. П. Доблаев удачно назвал « микроанализом текста » [ 44, с. 33].
Микроанализ, охватывающий смысловые различия не только целых фраз, но и отдельных слов, очень помогает вскрывать и «формальные неточности текста», включая несовпадение набора с оригиналом. Простейший пример из корректорской практики: в цитате из басни Крылова «Пожар и Алмаз» — «Как ты со всей своей игроЮ, — сказал Огонь, — ничтожен предо мной!» — на ошибку указывает расхождение в рифме.
Качества, которыми обладает читатель-наблюдатель, используются, конечно, главным образом по профессиональной линии. Но они могут пригодиться и читателю в собственном смысле. «Отнюдь не исключено, что корректор в типографии способен вдумчиво читать исправляемый текст, — пишет А. Моль, — с другой стороны, ничто не запрещает читателю обращать внимание на буквы, например, на правописание слов, на шрифт, которым они набраны, а также на более или менее „эстетическое“ расположение статей и заголовков в газетной полосе. Повседневный опыт убеждает нас в том, что как раз последний случай соответствует действительности» [ 77, с. 201].
Авторам и редакторам только бы ликовать и радоваться, что у нас бурно растет число читателей-наблюдателей, способных указать на допущенный недосмотр, торопящихся устранить какую-либо неясность или дополнить напечатанное своими сообщениями. Два глаза хорошо, а сто лучше!
Таким образом, как заверяют психологи, «зрительная работоспособность индивида зависит от уровня активности всего комплекса (выделено мной. — О. Р.) параметров зрения, а также от ряда психологических факторов, обеспечивающих способность человека к сосредоточению внимания на зрительной задаче» [ 56, с. 91].
Итак, на шутливый вопрос «Верить или не верить своим глазам?» не может быть однозначного ответа. Но теперь мы, по крайней мере, знаем, когда можно с уверенностью положиться на нашего друга — зоркое око, а когда он может «подвести». Все это безусловно имеет значение для тех, кто не просто читает книгу, журнал, газету, но изо дня в день напряженно работает в интересах читателя, оберегая точность и нерушимость издания.
...Не вырубишь топором
Различию между устной и письменной речью посвящено немало работ, начиная с известной книги И. А. Бодуэна де Куртенэ «Об отношении русского письма к русскому языку». В современной литературе речь устная и речь письменная взаимно противопоставляются по способам осуществления и восприятия. «Для того чтобы сделать устное сообщение, — писал один из крупнейших советских лингвистов С. И. Бернштейн, — не требуется ни работы пальцев, таких неуклюжих и медлительных в сравнении с языком и губами, ни продолжительного труда наборщиков, ни типографских машин». До поры до времени остается в силе и то положение, что устная речь производится движениями органов речи без помощи внешних орудий и воспринимается слухом, тогда как письменная речь производится движениями пальцев при помощи орудий письма и воспринимается зрением [ 11, с. 108, 118].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: