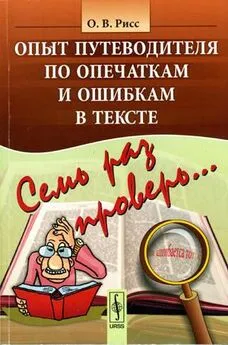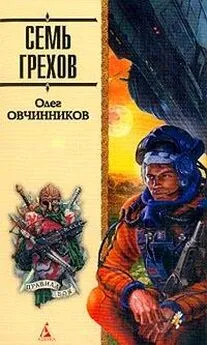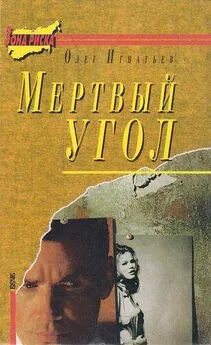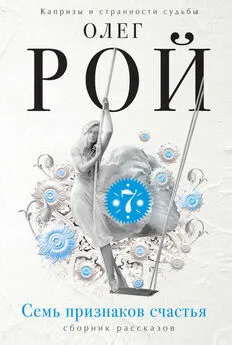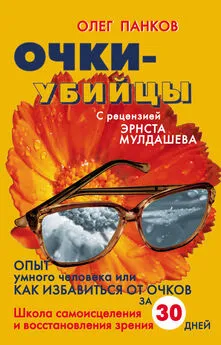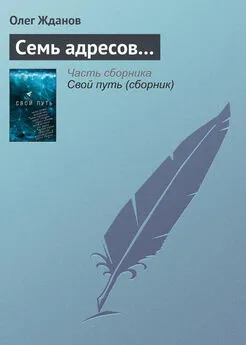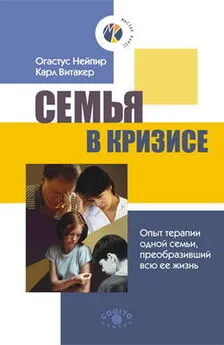Олег Рисс - Семь раз проверь... Опыт путеводителя по опечаткам и ошибкам в тексте
- Название:Семь раз проверь... Опыт путеводителя по опечаткам и ошибкам в тексте
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ЛКИ
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-382-01077-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Рисс - Семь раз проверь... Опыт путеводителя по опечаткам и ошибкам в тексте краткое содержание
Приведенные в книге сведения будут полезны и интересны как непосредственным участникам создания книги — авторам, редакторам, корректорам и т. д., так и самому широкому кругу читателей.
Семь раз проверь... Опыт путеводителя по опечаткам и ошибкам в тексте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сложившиеся в период изобретения книгопечатания экономические, исторические и социальные условия создали благоприятную почву для упрочения новых этических взглядов на такой известный предмет, как книга, рукопись, продукт литературного труда. Эстетическое восприятие книги как произведения печатного искусства должно было закономерно дополниться этикой печатного слова, выразившей ряд обязанностей тех, кто участвует в создании такой несравненной духовной ценности, и прежде всего — обязанностей перед читателем. Вот почему и требования максимальной точности печатного текста (в смысле его соответствия как авторской рукописи и корректуре, так и вообще истинным фактам) вошли в свод либо закрепленных письменно, либо принятых по традиции правил и условий, составляющих основу этики печатного слова.
По мере успехов книгопечатания «набирает силу» критика текстов, ставшая новой отраслью гуманитарных наук, целиком построенной на принципах точности (или акрибии , как значится в научной терминологии). И вот что представляется неопровержимым: для большинства умудренных опытом авторов точность слов, формулировок, доказательств, выводов и т. д. — вовсе не мелкая пунктуальность, не литературное крохоборчество, не докучливый формализм (увы, и поныне встречаются подобные взгляды!), а твердое нравственное обязательство перед читателем и долг перед самим собой.
Не всякий читатель заметит, что автор где-то «обремизился», но тот, кто выступает в печати, не может себе позволить нарушать точность.
Поразительно четко это выразил Герцен: «Мне никто не запрещал говорить, что 2*2 = 5, но я против себя не могу этого сказать» [ 31, с. 379]. Поступаться доказанной истиной — значит, по Герцену, идти «против себя». Здесь и спорить нечего, что точность тем самым возводится в ранг этической нормы, иначе говоря — опять же по Герцену — воспринимается как «осознанный долг» или «естественный образ действия». Такую нравственную установку разделяли многие литераторы и ученые, жившие в одно время с Герценом и позднее.
Не тревога ли охватывала Пушкина, когда он размышлял: «...самое неосновательное суждение получает вес от волшебного влияния типографии. Нам все еще печатный лист кажется святым . Мы все думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!» [ 91, с. 200].
Выделенная курсивом цитата из сатиры И.И. Дмитриева «Чужой толк» приведена Пушкиным как раз в том месте статьи «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений», где он говорит о совести. Вряд ли кто усомнится, что печатный лист не просто «казался», а для Пушкина был подлинно «святым» в том смысле, что слово, обращенное к читателям, к народу, недопустимо осквернять ложью или глупостью, несправедливостью или небрежностью.
Для Пушкина было «ясно, как простая гамма», что точность слова писателя неотделима от той точности, с которой оно передается на печатном листе. Поэта огорчало, когда он сталкивался с самовольством или неаккуратностью издателя и типографии. 12 января 1824 года он писал А.А. Бестужеву: «Я давно уже не сержусь за опечатки» [ 92, с. 78], но в том же письме упрекал его за грубые искажения в тексте стихов «Нереида» и «Простишь ли мне ревнивые мечты», напечатанных в бестужевском альманахе «Полярная звезда». Что и говорить, «как ясной влагою полубогиня грудь...» (правильно: «над ясной влагою») и «с болезнью и мольбой твои глаза» (правильно: «с боязнью и мольбой») затемняли смысл, разрушали поэтический образ и, естественно, вызывали недоумение у читателей альманаха.
Чем, как не заботой о восстановлении своей, затронутой в данном случае, литературной чести, руководствовался Пушкин, когда обращался к будущему недругу Ф. В. Булганину с просьбой перепечатать оба стихотворения в «Литературных листках». Поэт открыто мотивировал эту просьбу: «Они были с ошибками напечатаны в „Полярной звезде“, отчего в них и нет никакого смысла. Это в людях беда не большая, но стихи не люди».
При подготовке первого собрания своих стихотворений (1826) Пушкин давал широкие полномочия «брату Льву и брату Плетневу»: «Ошибки правописания, знаки препинания, описки, бессмыслицы прошу самим исправить — у меня на то глаз недостанет» [ 92, с. 129]. Поэт не всегда имел возможность лично наблюдать за исправным печатанием своих произведений. К тому же опечатки в книгах той эпохи вообще были настолько распространенным явлением, что на все действительно недоставало глаз.
Но, как подтверждается письмом к Е.М. Хитрово в сентябре 1831 года, Пушкин довольно щепетильно относился к порче словесной ткани своих стихов.
Незадолго до упомянутого письма вышла брошюра «На взятие Варшавы», в которой были напечатаны «Старая песня на новый лад» В.А. Жуковского и два стихотворения Пушкина: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». В письме к дочери великого полководца М. И. Кутузова поэт счел необходимым указать на ошибку в последнем стихотворении: «Вы, полагаю, читали стихи Жуковского и мои: ради бога, исправьте стих
Святыню всех твоих градов .
Поставьте: (гробов). Речь идет о могилах Ярослава и печерских угодников; это поучительно и имеет какой-то смысл, ( градов ) ничего не означает» [ 92, с. 844–845].
У В.Е. Якушкина имелись должные основания утверждать, что «когда обстоятельства позволяли, Пушкин с полным вниманием следил за своими изданиями» [ 140, с. 104]. Так, в конце книги «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», отпечатанной в сентябре 1831 года типографией Плюшара, под рубрикой «Погрешности» дано исправление опечаток. Например, на с. 68 в повести «Метель» оказались лишними кавычки, разрывающие непрерывную речь Бурмина и искажающие смысл целого высказывания. Слова «Молчите, ради бога, молчите» — произносит не Марья Гавриловна, как напечатано в книге, а Бурмин, умоляющий не возражать ему. На с. 109 станционный смотритель назван «Симеон Вырин», а в «погрешностях» указано, что следует читать «Самсон», и т.д.
В.И. Чернышев был убежден, что такие поправки не мог сделать никто иной, кроме самого Пушкина [ 122, с. 22].
Чуткий ко всему, что касалось правильности и точности слов, В. И. Чернышев не случайно одно из своих исследований посвятил «поправкам к Пушкину». Он красноречиво показал, что для великого поэта не существовало «мелочей» в том, что могло поколебать достоинство его творений.
Рассказывая о последнем прижизненном издании «Евгения Онегина», Н.П. Смирнов-Сокольский сослался на свидетельство современника: «Оно исполнено было так тщательно, как не издавались ни прежде, ни после того сочинения Пушкина. Корректурных ошибок не осталось ни одной; последнюю корректуру самым тщательным образом просматривал сам Пушкин» [ 105, с. 390].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: