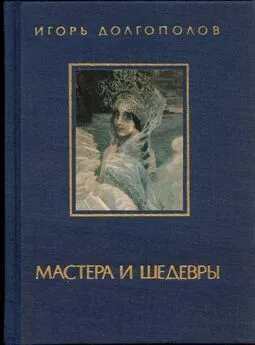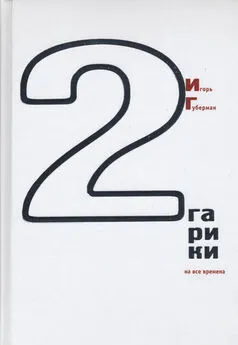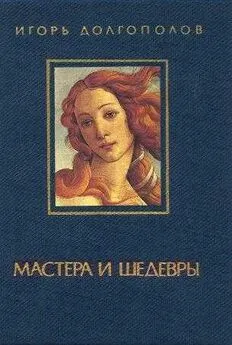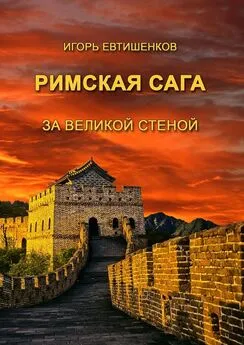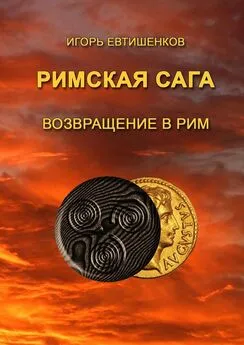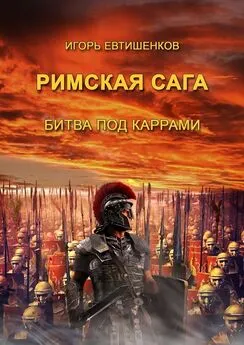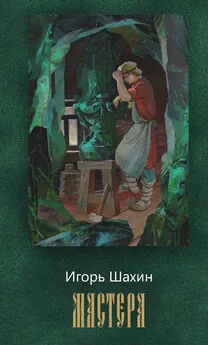Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2
- Название:Мастера и шедевры. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Изобразительное искусство
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2 краткое содержание
Во втором томе издания «Мастера и шедевры» заслуженного деятеля искусств РСФСР И. В. Долгополова рассказывается о выдающихся мастерах отечественного изобразительного искусства, художниках Андрее Рублеве, Александре Иванове, Федотове, Перове, Сурикове, Репине, Валентине Серове и других. В увлекательных и талантливых новеллах читатель ознакомится с их творческой судьбой.
Издание рассчитано на самого массового читателя. В книге около 300 цветных и черно-белых репродукций.
Мастера и шедевры. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Прекрасное — есть жизнь».
Одним из первооткрывателей этой новой красоты в русской пейзажной живописи, красоты простой и активной, стал Саврасов! Он нашел в себе силы сбросить тяжкий груз живописных условностей и, что самое главное, дать наконец простор приобретенному еще в юности чувству музыки русской природы.
Войдите в уютный маленький зал Третьяковской галереи. Там всегда людно.
«Грачи прилетели».
Подойдите ближе, и вы услышите, как звучит картина.
Ваш слух уловит музыку весны.
Звон капели, журчание воды в проталинах, шорох ветвей берез, грачиный гомон.
Скрип сверкающего наста, шелест весеннего ветра и тихий благовест.
В серой стене зала будто вырублено светлое окно.
Полотно решено в тончайшем валере.
Изысканные колебания бледно-лазоревых, голубых, бирюзовых тонов.
Солнце скрылось.
Но его лучи пробивают легкую пелену и бросают сложные серо-голубые тени на снег.
Живопись холста многослойна.
Цветная мозаика в светах пастозна и доведена до эмалевой плотности. Несмотря на необычайно точное общее звучание полотна, художник прибегает к ювелирной деталировке картины, которую можно рассматривать часами в упор.
Пейзаж до предела обжит.
Время оставило свои следы в выщербленных кирпичах колокольни, в отсыревших досках заборов, в покосившихся домах. Все, от исхоженного сырого наста до искореженных берез, все свидетельствует о неумолимом влиянии времени.
Кричат грачи, вьется сизый дымок из трубы деревянного домика, мерцает весеннее солнце.
Каждая пядь картины выстрадана влюбленным в природу России поэтом-художником, и эта его пристрастность передается вам, и вы дышите этим еще морозным, колючим воздухом.
Вы слышите пение весны.
Весь холст полон удивительного внутреннего движения.

Зимняя деревня.
Бегут, бегут тени по снегу, дрожат отражения в темных проталинах, еле колышутся голые ветки берез, неспешно плывут перламутровые облака.
Мерцают дали, кое-где поблескивая старым серебром.
В картине нет манеры, нет эффектных ударов кисти, нет претендующих на виртуозность приемов.
Язык холста прост до изумления, он почти (да простят меня стилисты) коряв.
Это озарение, когда многолетняя школа, заученность руки — все уступает биению сердца и тому восторгу, который сопровождает рождение шедевра.
Саврасов — лирик, и его «Грачи» — пример проникновения в самую суть, душу русской природы.
… Отшумели вернисажи, разошлись зрители. Попробуем разобраться в звучании «Грачей» тогда, в далекую пору. Век назад.
Крамской пришел в восторг от картины. Оценивая пейзажи Передвижной, он писал, что на всех иных полотнах есть «вода, деревья, даже воздух», а душа есть только в «Грачах».
Но не все так верно оценивали «Грачей».
В «Московских ведомостях» некий В. В. писал:
«Хорошенький вид уже чернотой краски дает чувствовать влажность только что сброшенной зимней одежды. Вы как будто чувствуете всю сырость и бесплодность минувшей зимы, но, несмотря на прилетевших грачей, нет этого живительного предчувствия наступающей весны».
Вот, как говорится, когда белое видят черным.
Ведь даже сегодня, через сто лет, «Грачи» поражают своей светлой гаммой, полным отсутствием черноты, удивляют своей цветной мозаикой.
Однако досадно, что подобные оценки, происходящие от слепоты критика, случаются и сегодня.
Но забудем о таких мелочах, хотя они порою бывают довольно болезненны для живущих.
Представьте себе на минуту, каково было читать Саврасову журнал «Дело», где критик, скрывавшийся под псевдонимом Художник-любитель, писал:
«Мы вообще не большие поклонники художников, которые пейзажи избрали своей исключительной и единственной специальностью, и такая односторонность для нас странна… Пейзаж нужен всякому рисовальщику как фон, как декорация для картины, но сам по себе пейзаж бесцелен!»
Итак, «Грачи» отправились в свой вечный полет… Но вернемся к автору холста, к его печалям и редким радостям.
Пора высшего творческого взлета Саврасова, пора создания «Грачей», отмечена событиями трагическими.
В 1871 году в Ярославле скончалась новорожденная дочка. Это усложнило отношения с женой, так не хотевшей ехать в провинцию. Вскоре скарлатина уносит вторую маленькую дочку — Наденьку.
Эти несчастья глубоко, трагично потрясли живописца.
Он возвращается в Москву.
Но как ни велико горе, а жизнь не остановишь.
И снова замелькали пестрые и пустые дни московских забот, заказов, никчемных долгов.
Трудно, очень трудно после высокого поэтического взлета «Грачей» опускаться на грешную землю.
Но ничего не попишешь.
И все же семидесятые годы отмечены необычайным творческим накалом. Саврасов не теряет высокой требовательности к себе.
Он изгоняет навсегда из своих заказных работ швейцарские мотивы в духе Калама и салонные «виды» имений вельмож. Он предпочитает творчески повторять «Грачей» либо писать картины русской природы.
Семидесятые годы были годами подъема в творчестве мастера. После «Грачей» он создает ряд полотен, среди них «Проселок» (1873), «Радуга» (1875) и «Домик в провинции» (1878).
В эти сложные годы Саврасов отвечает на все трудности работой и работой. Он как бы переносит всю борьбу с жизненными передрягами в свои картины, изображая в них неуемную борьбу света и тени, солнца и надвигающейся грозы.
«Проселок», пожалуй, самый значительный холст после «Грачей». Если колорит «Грачей» — серебристо-перламутровый, то живописный строй «Проселка» — золотисто-жемчужный.
Каким поэтическим ощущением природы надо обладать, чтобы увидеть в липкой грязи размытого ливнем проселка сказочный по красоте, сверкающий мир. Чудо! Только так можно назвать этот холст Саврасова, способный выдержать соседство с любым полотном прославленных барбизонцев.
Загадочно отсутствие техники мастера. Порою она почти топорна (да простят меня еще раз строгие знатоки стиля). Но в этом, наверное, и есть предельная откровенность и динамичность почерка живописца.
В каком-то хаосе буквально нашлепанных красок рождается чудо пленэра.
Но когда вы вглядитесь попристальней, то обнаружите тайную мудрость направления мазков, напряженность красочного слоя в светах, тончайшие лессировки в тенях.
Саврасов обнаруживает в этом холсте раскованность мастерства или, если хотите, ремесла живописца.
Потому так трепетно живет и дышит эта картина.
Мы явственно слышим пение жаворонка, голос горячего ветра, тот нестройный шум и гул, который свойствен нашим просторам.
Мы видим мир живой, полный терпких запахов, борьбы яркого света и теней, полный симфонического звучания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: