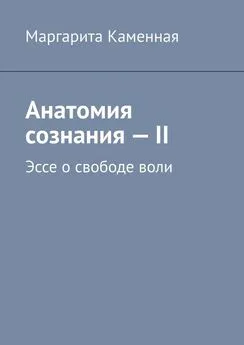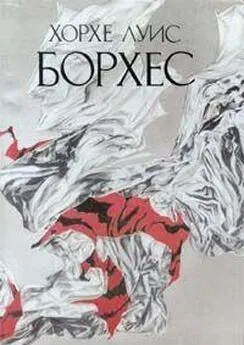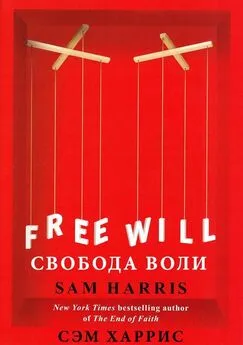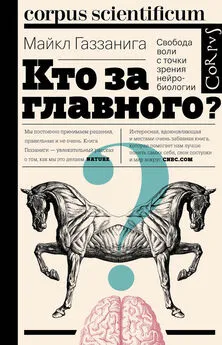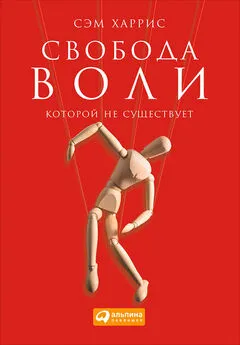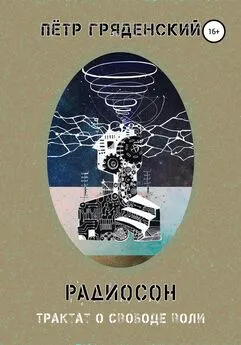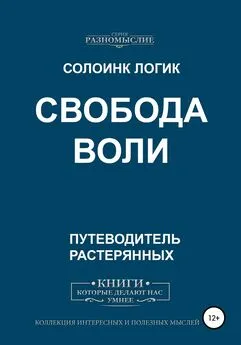Маргарита Каменная - Анатомия сознания – II. Эссе о свободе воли
- Название:Анатомия сознания – II. Эссе о свободе воли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005078483
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Маргарита Каменная - Анатомия сознания – II. Эссе о свободе воли краткое содержание
Анатомия сознания – II. Эссе о свободе воли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я начала этот текст в первый день сорок первого года своей жизни за столом в одном из частных московских колледжей, где работаю преподавателем русского языка и литературы. Поэтому часто в повествование будет вплетаться слово «дети» – детям от шестнадцати и выше. Также будет встречаться слово «сын» – этому герою двадцать два. Будет пробегать слово «подруга»: и это либо моя Юлька, школьная подруга, наперсница дней суровых, ставшая врачом, либо Джана – человек, которого подарил мне мир, когда я потеряла для себя Юльку. Слова «папа», «мама», «сестра» – это моя семья. Все остальные герои – ситуативно.
Теперь о героях трудных. Слова «мозг», «сознание», «тело», «культура», «миф» – эти мои любимцы будут чаще иных гулять по строчкам текста, они не жуткие, но очень – трудные. Я постараюсь быть точной употребляя их. Слов, которых не понимаю, постараюсь избегать. Умные люди пишут очень умные книжки, и мой мозг часто ломается, отказываясь их понимать, и в моей голове – каша. Ох, уж мне эти умные люди – ученые! Какие жуткие и трудные слова они знают, а как легко ими жонглируют! Прости, читатель, я не умный человек, поэтому как дурак, всё познающий на своих ошибках, могу прицепиться к какому-нибудь очень «тёмному» для меня слову или мысли… и мучить тебя и себя этим. Прости заранее…
Какая у нас цель? Решить вопрос: есть ли свобода воли у человека или нет? Зачем?
На этот вопрос у меня пока нет ответа…
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДЕТЕРМИНИЗМ, или Слово о детях
Почему родилось «Слово о детях»? Потому, что в умной и хорошей книжке Ларса Свендсена «Философия свободы», мне вычиталось:
«В Средневековье был проведен целый ряд судебных процессов над животными. Одним из наиболее известных примеров является случай во французском городе Савиньи, где в 1457 году свинья была осуждена за „преднамеренное и безжалостное“ убийство пятилетнего мальчика. Более того, на скамье обвиняемых оказалась не только сама свинья, но и шесть ее поросят. В соответствии с принятой практикой судопроизводства, свинье и поросятам был назначен адвокат, произносивший речь в их защиту. Спасти свинью ему не удалось, однако поросята были оправданы несмотря на то, что их застали на месте преступления перемазанными в крови жертвы. Смягчающим обстоятельством послужил их юный возраст и тот факт, что они пошли на преступление под влиянием матери. Надо отметить, что на других подобных процессах обвиняемым часто выносился обвинительный приговор в числе прочего и потому, что они громко хрюкали и проявляли всяческое неуважение к суду. Количество подобных судебных процессов достигло кульминации в начале XVII века, однако они продолжали совершаться еще многие десятки и даже сотни лет: последние примеры относятся уже к XX веку». 1 1 Свендсен, Л. «Философия свободы». – М.: Прогресс-традиция, 2016
Могла ли я этого не прочитать? Могла, так как книг по теме свободы воли очень много: и в этом море литературы можно утонуть. Однако эту я открыла после двухнедельного перерыва моих штудий на данную тематику, что называется, по случаю. Это было в последний день мая, когда, счастливо простившись с учениками, я наконец-таки могла полностью посвятить все свое время желанными занятиям. В этом двухнедельном промежутку мысль моя, конечно, все равно, так или иначе, кружилась вокруг свободы и разных понятий с ней связанных: воля, сила, мозг, сознание, интеллект, инстинкт и так далее. Почему? Я решала для себя вопрос о свободе воли, а заодно проверяла теории – практикой.
Могла ли я этого не прочитать? Нет, не могла! Беглый просмотр книги привел меня в возбужденное состояние: наконец-то мне встретился автор, чьи мысли о свободе воли были приятной мелодией, поскольку в них я нашла подтверждение своим, то есть, проще говоря, я подсознательно искала информацию, которая бы помогла мне укрепиться в своей точке зрения: мне нужна была апелляция к авторитетному мнению, и я ее нашла. Во мне все встрепенулась к радости, когда я прочитала:
«Насколько нам известно, некоторые онтологические уровни скорее детерминированы, а некоторые скорее недетерминированы. Мы не имеем ответа на самый важный вопрос: детерминирован или нет человек. Вследствие этого мы не можем отдать предпочтение одной из описанных концепций свободы».
– Ну, да… точно… так оно и есть… – однако этому воплю согласия предшествовало долгое думание над одной из своих жизненных ситуаций, но вот в такое красивое и емкое слово весь её смысл облек другой.
***
Это случилось в прошлом учебном году, осенью, в третий год моей работы в колледже; мне было тридцать девять с половиной.
Это была группа ХХХХ мальчиков программистов. Это была очень тяжелая группа, где все дети оказались как на подбор с огромным фрейдистским эго и напрочь отсутствующим сознанием, то есть они очень много о себе мнили и мало смыслили, однако я поняла это далеко не сразу. Здесь со мной шутку сыграла моя некая априорная установка: все люди – это человеки, все дети – это люди, но некоторые из них еще недовоспитались до человеков. Патриотического пафоса к жизни мне никогда было не занимать, и в тот год жизнь предоставила мне широкое поле для довоспитания.
Впервые я заподозрила, что что-то не так на уроке литературы, когда, поотбирав телефоны, неимоверным усилием воли заставила детей молчать и слушать себя. И вот в короткий момент тишины, когда мне удалось добиться внимания к предмету, дверь в аудиторию отворилась, и какая-то женщина попросила выйти на пару слов. Я подошла и, встав в простенке, поинтересовалась, что ей нужно, параллельно наблюдая за начинающим волноваться морем детских затылков: женщине нужен был список литературы для одного из моих нерадивых прошлогодних учеников. Я сослалась на занятость и попросила ее подойти на перемене, но она оказалась неприятно настойчива, поэтому мне пришлось быстро проговаривать основные произведения классиков, понимая, плакала моя дисциплина. И тут я краем глаза замечаю, что одни из учеников – Е.С., улучив момент, стал продвигаться на полусогнутых к преподавательскому столу за своим телефоном:
– На место! На место я сказала! Сидеть! Быстро!
Стекла в аудитории дрогнули, дети вжали головы в шеи и затихли, Е.С. от неожиданности присел, у пришедшей подкосились колени, а я офигела сама от себя и перевала взгляд на мамашу:
– Да-да… я понимаю… я позже… на перемене… потом… как-нибудь зайду… да-да… зайду… – залепетала просительница.
Кивнув, я закрыла дверь и направилась в полной тишине на место, страшно гордясь собой: о, как могу!
Второй раз странное случилось на уроке русского, когда двое оболтусов – уже известный Е.С. и А.Д. – наперегонки изощрялись в дурном словоблудии, но не просто так: они блудили словами, смысла которых не понимали, но в своей непосредственной обжорливой радости множили мерзость запустения. Это тоже была моя вина: не оценив уровень умственного развития группы, я задала домашнее задание, которое позволяло при желании давать пошлость трактовок. Что за задание?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: