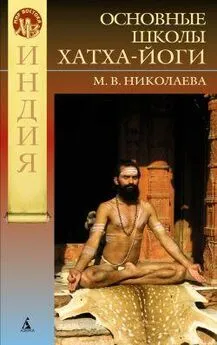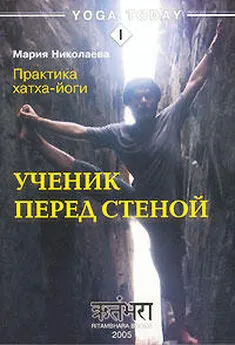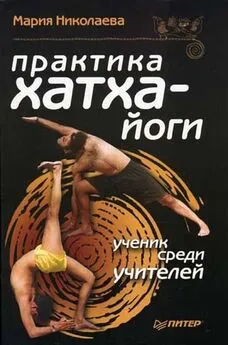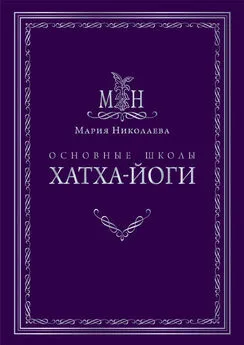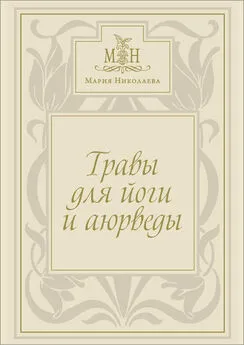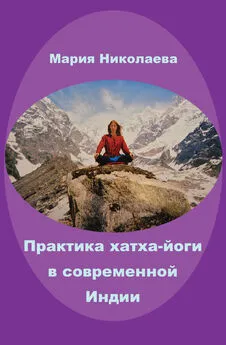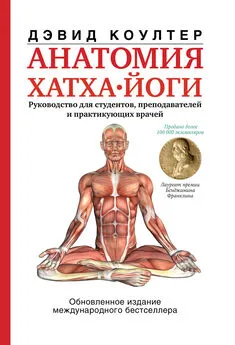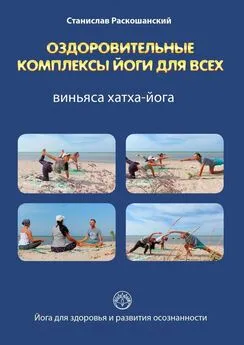Мария Николаева - Философские основания современных школ хатха-йоги
- Название:Философские основания современных школ хатха-йоги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука-классика, Петербургское Востоковедение
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-85803-348-6, 978-5-352-02116-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Николаева - Философские основания современных школ хатха-йоги краткое содержание
В настоящее время под йогой понимается, как правило, именно хатха-йога, которая за последнее столетие обрела необыкновенную популярность сначала в самой Индии, а затем на Западе. Особенность этого пути духовной самореализации состоит в тщательно разработанных методах воздействия на собственное сознание путем совершенствования и полной трансформации физического тела. Внутри данного направления давно сложилось несколько традиций, в рамках которых развивается множество школ, использующих оригинальные методы работы с телом и сознанием. Однако до выхода этой книги в мировой науке не появлялось ни одного труда, где были бы систематизированы главные школы и, что намного существеннее, выявлены их философские основания.
Хатха-йога – это не просто часть йоги, но вполне самодостаточное средство реализации основной цели йоги, то есть йога сама по себе. Йога – это не просто система индийской философии, но универсальное средство работы с сознанием, вводимое в той или иной форме в любую систему индийской философии, то есть философия сама по себе. Таким образом, хатха-йога в западном смысле ближе к практической философии, где воля доминирует над разумом, или «философии тела», где самосознание опосредствовано трансформацией телесных функций.
Книга написана специалистом по философии, много лет практикующим хатха-йогу и проводящим научные исследования в Индии, автором практических руководств по йоге и популярных книг о различных аспектах индийской культуры.
Философские основания современных школ хатха-йоги - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Высказываний обобщающего характера о включении методологии йоги в любую систему индийской философии приведено предостаточно, и теперь стоит остановиться на их конкретизации. Одним из самых продуктивных мета-философских контекстов представляется «наука о философиях» Д. Б. Зильбермана, где выделяется следующее «генетическое» свойство индийских философских систем: сами индийские философии автономны и не определяются никакими экстра-философскими факторами, а зависят исключительно друг от друга. Разворачивающаяся в них философская активность проинтерпретирована Зильберманом как praxis sui generis , направленный исключительно на воспроизводство каждой из этих систем посредством репродукции их всех. Рассматривая йогу, Зильберман обращает внимание на то, что йогический термин «медитация» ( дхьяна ) весьма близок декартовой медитации и может быть удачнее всего переведен как «мышление», при соответствующем уточнении смысла термина. Мышление рассматривается в обоих случаях не как естественный ход мысли индивида, но как объективированная техническая процедура дивидуального конструирования ( викальпа ). Данный метод, известный в древней йоге еще до создания сутр , применялся Декартом в разработке аналитической геометрии, но не в его философии с позиций радикального сомнения. Весьма примечательно, подчеркивает Зильберман, что метод викальпы , повсеместно принятый в современной науке со времен Галилея, никак не привился в западной философии, сохранившей «естественную установку» познания и ориентацию на «истину». Исключение составляет Гегель, что, впрочем, отдельная тема.
В трудах Зильбермана отчетливо проведены параллели между йогой и феноменологией, и в данном контексте йога оказывается неотделимой от санкхьи. Йога как психо-технология осуществляет практическую проработку категорий состояний сознания ( таттв ), теоретически провиденных санкхьей как психо-теорией, а санкхья развивает свою телеологию, столь необходимую йоге. Психологическая теория санкхьи развивается потому, что обнаруживает в йоге практическое приложение своих схем. Зильберман не считает психологию санкхьи ни экспериментальной психологией, ни теоретической дисциплиной в западном понимании. Для него это некоторая внешняя форма того содержания, которое она транслирует в йогу и получает, по апробации, обратно. При таком истолковании, вся программа гуссерлевской феноменологии оказывается по сути выполненной в санкхье. Конкретнее, санкхья обеспечивает материал для феноменологической активности йоги. Соответственно, йога, целенаправленно меняющая ментальные состояния, обращается к санкхье за помощью в их вербализации. Зильберман усматривает аналог йоги в прагматическом аспекте феноменологии: принцип структурирования состояний сознания ( читта вритти ниродха ) используется здесь для натурализации интенционального сознания в стабильные элементы его структуры. Эта натурализация, как и вся прагматика Патанджали, однако, повисает в воздухе без теоретических конструкций санкхьи .
В истолковании Зильбермана практика хатха-йоги оказывается деятельностью в пограничной области между философией и наукой, точнее, в сфере пересечения психофизиологии и феноменологии. Особенно поражает Зильбермана автономия мышления, т. е. независимость от осмысляемого материала, которая представляется ему наглядной в случае прагматического трансцендентализма йоги. Данный вывод опирается на привязанность практики хатха-йоги к работе с чакрами, обучение которой должно начинаться знакомством с символической диаграммой человеческого тела. Не язык, а само тело йога представляет собой в данном случае метаморфическую форму дивидуального мышления. По Зильберману, субъективное мышление или объективированная мифология не имеют значения в йогической практике, коль скоро даже в индивидуализированной телесной деятельности главным для йога оказывается культурная матрица его существования. Вывод Зильбермана как нельзя лучше встраивается в контекст нашего исследования, предоставляя один из вариантов его завершенности:
«Хотя символы, используемые йогами, кажутся на первый взгляд идентичными, их внутреннее значение различно в разных школах и культурах . Истинная цель йогических упражнений (как раз она-то и выдает фальшь западных имитаций) – в переживании не определенных психофизических состояний, а смыслов традиции, которые наполняют эти упражнения реальным содержанием. В этом смысле йога не более физиологична, чем, например, церковь как социальный институт христианства… Йога была сконструирована специально, целенаправленно; материалом же для данного конструирования послужил естественный опыт человеческого тела».
Пролог к исследованию современных традиций
Школьная принадлежность самосознания йога
Возвращаясь к самому началу, повторим: современные школы хатха-йоги при всем их разнообразии объединены стремлением возвести основания, определяющие особенности построения практики, к классической философской системе йоги. Тем не менее допустимо повторить заключение не только о единстве, но и о дифференциации: и хотя символы, используемые йогами, кажутся на первый взгляд идентичными, их внутреннее значение различно в разных школах . Таким образом, йога, как и всякая индийская философия, имеет «школьный» характер. Главные современные традиции йоги – Шри Кришнамачарьи и Свами Шивананды – задают исходное противоречие в подходе к реализации цели аштанга-йоги, которое решается в процессе конкретизации построения практики. В первом случае осуществляется предельно полная концентрация всех восьми ступеней в асане и пранаяме , а во втором – опора на данные ступени для реализации низших (социальных) и высших (духовных) целей. Усилия не распределяются равномерно, а сосредотачиваются в упрочении центральных звеньев цепи, относящихся непосредственно к хатха-йоге, или попытках напрямую соединить начальные и конечные, вынося хатха-йогу на поверхностный уровень. Само представление о наличии и смысле последовательности в практике тоже подвергается всесторонним интерпретациям. Даже итоговые самадхи , достижимые в различных школах традиций Шри Кришнамачарьи и Свами Шивананды выступают как разные состояния и порождают дополнительные истолкования самадхи в тексте Патанджали, бессильном сохранить исходный смысл.
Закономерно, что наиболее завершенные и конкретизированные комментарии мы находим не у основателей традиций и не у их верных последователей, которым в качестве аргументации истинности пути достаточно примера авторитетного учителя, а у наиболее самостоятельных учеников. Так, в традиции Шри Кришнамачарьи это комментарии Б. К. С. Айенгара, а в традиции Свами Шивананды – комментарии Свами Сатьянанды. Однако это не означает их «внешкольности», наоборот, если вначале постулаты были довольно расплывчатыми и сама личность Шри Кришнамачарьи известна немногим, то адепты айенгар-йоги наиболее ревностно отстаивают «чистоту традиции», забывая о том, что их учитель создал свою систему практически самостоятельно экспериментальным путем и в исторических масштабах совсем недавно. Ведь если Айенгар, усвоив принцип «не человек для йоги, а йога для человека», создал айенгар-йогу, то его последователям следовало бы воспроизвести его самостоятельность на формообразующем уровне. Но при всем свободомыслии современного человека тенденции к сохранению новых «школ» остаются очень сильными, поэтому влиятельность подобных комментариев на древние тексты не следует недооценивать. Они вполне могут послужить средством переобозначения всех понятий и переосмысления всех умозаключений. Не случайно их главный пафос состоит в претензии на «восстановление» древних прозрений. Философия йоги – это современная философия, дальнейшее развитие которой подчинено экзистенциальной неизбежности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: