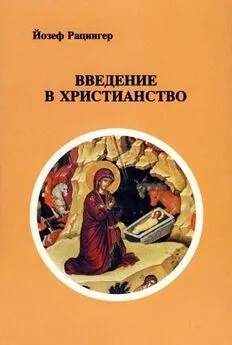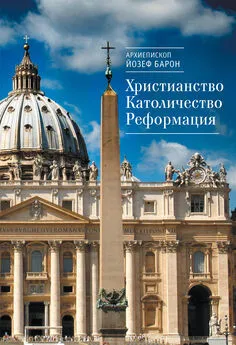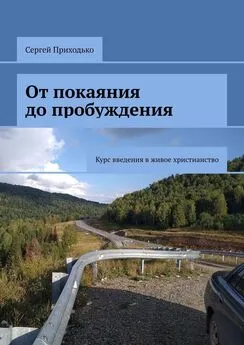Йозеф Ратцингер - Введение в христианство
- Название:Введение в христианство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йозеф Ратцингер - Введение в христианство краткое содержание
Введение в христианство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В этом решении, утверждающем разумную структуру бытия, которое возникает из смысла и понимания, полагается одновременно и вера в творение. Оно означает также убеждение в том, что тот объективный дух, который мы преднаходим во всех вещах — и более того, сами эти вещи мы научаемся понимать как этот дух — есть отпечаток и выражение субъективного духа и что те разумные структуры, которыми обладает бытие и которые мы можем, открыв их, помыслить (nach-denken), есть выражение предшествующей творческой мысли (vor-denken), благодаря которой они существуют.
Уточним: В древнем пифагорейском слове, согласно которому Бог занимается геометрией, выражается такое уразумение математической структуры бытия, которое позволяет понять бытие как мыслимое и мысленно структурируемое бытие. В нем выражается мысль, что материя не просто бессмысленна (Unsinn) и чужда познанию, но что и она несет в себе истину и разумность, которые делают возможным ее мыслящее постижение. Это понимание неслыханно уплотнилось в наше время, благодаря исследованию математического строения материи, ее математической мыслимости и возможности быть использованной. Эйнштейн сказал однажды, что в закономерности природы «открывается столь возвышенный разум, что по сравнению с ним все осмысленные человеческие идеи и устроения представляются совершенно ничтожным отблеском его» 47 . То есть, все наше мышление на самом деле есть лишь следование мыслью за тем, что в действительности уже было продумано. Жалким образом пытаемся мы воспроизвести то мысленное бытие — которым являются вещи — и найти в нем истину. Через математику Вселенной математическое миропонимание здесь вновь обрело «Бога философов» — впрочем, и со всей его проблематикой. Это проявляется в том, что Эйнштейн постоянно отвергает понятие личного Бога как «антропоморфное», связанное с «религией страха», с «моралистической религией», и противопоставляет ему в качестве единственно адекватной формы «космическую религиозность», которая выражается для него в «восхищенном удивлении гармонией и закономерностью природы», в «глубокой вере в разумность мироздания» и в «жажде понимания, пусть и оказывающегося лишь жалким отблеском разума, открывающегося в этом мире» 48 .
Здесь перед нами вся проблема веры в Бога. С одной стороны, открывается прозрачность бытия, его разумный, обращенный к мышлению характер. С другой стороны — невозможность соотнести это мышление бытия с человеком. Очевидно, барьер, который препятствует отождествлению «Бога веры» и «Бога философов» коренится в слишком узком и недостаточно продуманном понятии личности.
Но прежде чем идти дальше, я приведу схожее высказывание одного естествоиспытателя. Джеймс Джине сказал однажды: «Мы находим, что Вселенная обнаруживает признаки планирующей и контролирующей силы, которая имеет нечто общее с нашим собственным индивидуальным духом, — и это, сколько мы видели до сих пор, не чувство, мораль или эстетическая способность, а тенденция к мышлению такого рода, который мы, за отсутствием лучшего слова, назвали геометрией» 49 . Мы снова видим то же самое: математик открывает математику космоса, разумную структуру вещей. Но не больше. Он открывает только Бога философов.
Что же здесь удивительного? Может ли математик, который рассматривает мир математически, найти во Вселенной что-либо иное, нежели математику? Быть может, сначала следовало бы спросить его, смотрел ли он когда-нибудь на мир иными, не математическими глазами? Разве он никогда не видел, к примеру, цветущую яблоню? Разве никогда не восхищался тем, что оплодотворение, совершающееся в общении пчелы и дерева, идет не иначе, как окольным путем — через цветок и, следовательно, включает в себя в высшей степени избыточное чудо прекрасного, что в свою очередь, может быть понято только как приобщение к тому, что само по себе Прекрасно? Если Джине думает, будто ничего такого до сих пор не было найдено в сфере духа, ему можно с уверенностью возразить: оно никогда и не будет и не может быть открыто физикой, поскольку она в своей проблематике существенным образом абстрагируется от эстетического чувства и морального отношения, поскольку в ней вопрошает природу чисто математический ум, который, следовательно, и может увидеть в природе одну только математическую сторону. Ответ всегда зависит от вопроса. И человек, который ищет целостное созерцание, должен будет сказать скорее так: без сомнения, мы находим в мире объектированную математику; но ничуть не менее находим мы в мире и неслыханное и необъяснимое чудо прекрасного, вернее, — в мире существует такое, что является созерцающему человеческому духу в форме прекрасного, и мы должны признать, что математик, который сконструировал такие явления, развил при этом колоссальные силы творческой фантазии.
Если суммировать намеченные нами фрагментарные наблюдения, можно сказать: мир есть объективный дух, он выступает для нас в «духовной» структуре, то есть представлен нашему духу так, что его можно обдумать и понять. Отсюда может быть сделан следующий шаг. Слова «Credo in Deum — Верую в Бога» выражают убежденность в том, что объективный дух есть результат субъективного духа и может существовать вообще только как его видоизменение или, иначе говоря, интеллигибельность бытия (которую мы обнаруживаем в качестве внутренней структуры мира) невозможна без мышления.
Думается, будет полезным пояснить и вместе с тем подкрепить это высказывание, включив его в контекст (набросанный опять-таки лишь в общих чертах) самокритики исторического разума. По прошествии двух с половиной тысяч лет философского мышления уже невозможно говорить о самом предмете с наивной прямолинейностью, как если бы никто до нас не предпринимал подобных попыток и не терпел при этом неудач. И когда история показывает нам поприще, усеянное обломками гипотез, впустую потраченного остроумия и выхолостившейся логики — мы едва ли не вовсе утрачиваем мужество найти нечто от сокровенной истины, превышающей горизонт непосредственно очевидного. Но безысходность эта не столь бесконечна, как кажется на первый взгляд. Несмотря на великое множество противоречащих друг другу философских путей, в конечном счете имеется всего несколько принципиальных возможностей выяснить тайну бытия. И вопрос, на котором все сходится, можно сформулировать так: что представляет собой конечный субстрат бытия во множестве единичных вещей и что такое то единое бытие, которое стоит за множеством сущих вещей, поскольку все они «суть»? Многочисленные ответы, порожденные историей, можно свести к двум основным возможностям. Первая, ближайшая, будет звучать примерно так: все, что мы встречаем, в своем предельном составе есть материя: она есть то единственное, что в качестве доказуемой реальности пребывает всегда и во всем и представляет собой подлинное бытие сущего. Другая, противоположная возможность гласит: кто исследует материю до конца, найдет, что она есть мысленное бытие, объективированная мысль. Материя не может быть чем-то последним. Материи предшествует мысль, идея; в конечном счете, все бытие есть разумное бытие и может быть сведено к духу как изначальной реальности. Итак, одна возможность представляет собой материалистический путь, другая — путь «идеалистический».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: