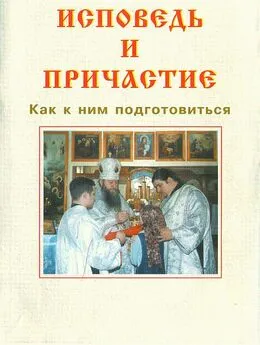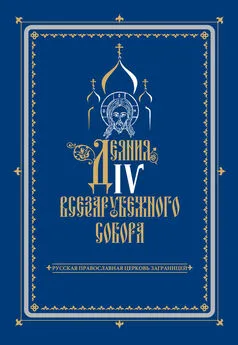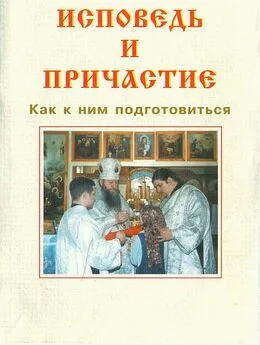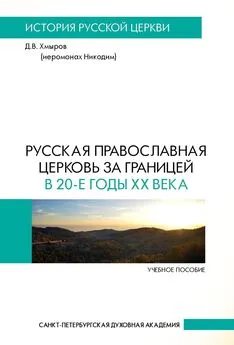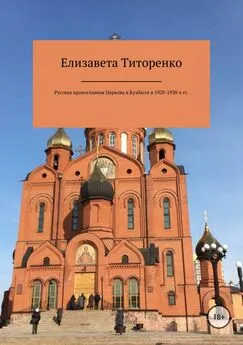Александр Фомин - Русская православная церковь в 1917 - 1927 годах
- Название:Русская православная церковь в 1917 - 1927 годах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:МГУ
- Год:1997
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Фомин - Русская православная церковь в 1917 - 1927 годах краткое содержание
Научно-популярный доклад о внутрицерковной жизни Русской православной церкви с октября 1917 г. по июль 1927 г. и ее роли в общегосударственных событиях основан на материалах, опубликованных до 1997 г.
Русская православная церковь в 1917 - 1927 годах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между тем золото нужно было не только для Генуи. Государству требовались средства для выплаты 30 миллионов золотых рублей репараций Польше по итогам проигранной Советской Россией войны. Об этом в частности Ленину нарком финансов Л. Б. Красин [21] Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы. М. 1996. с. 75–76.
. 5% от изъятых ценностей по постановлению Политбюро ЦК РКП(б) отчислялось на нужды военного ведомства [22] Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы. М. 1996. с. 111.
.
Большевистское руководство провело большую работу по организации изъятия ценностей. Фактически всей кампанией руководил Л.Д. Троцкий, что, однако, не афишировалось, чтобы не давать пищу для антисемитской пропаганды. Формально всем руководил ЦК Помгола, но за его спиной стояла секретная комиссия из четырех человек (Сапронов, Уншлихт, Землячка, Галкин (кстати, бывший священник)), которая и ведала всей «организационной и технической стороной дела» [23] Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы. М. 1996. с. 78–79.
. Относительно организации дела на местах очень интересна инструкция, принятая политбюро ЦК РКП 20 марта по предложению Троцкого. На местах по примеру центра создавались две комиссии (секретная и официальная), причем предписывалось «строго соблюдать, чтобы национальный состав этих официальных комиссий не давал повода для шовинистической агитации». Перед изъятием требовалось проводить недельную агитационную кампанию. Предлагалась подключать к ней представителей голодающих и «лояльное» духовенство, провоцируя таким образом раскол в Церкви (во всероссийском масштабе это был обновленческий раскол — о нем речь ниже). Для недопущения эксцессов предполагалось организовывать коммунистов и использовать части особого назначения. В случае сопротивления его организаторы подлежали аресту [24] Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы. М. 1996. с. 94–96.
. Для придания большей авторитетности проводимой кампании Троцкий из Москвы телеграфировал руководителям поволжских губерний: «Необходимо в кратчайший срок выслать в Москву делегацию из крестьян и рабочих, солидных, не очень молодых, которые могли бы от имени голодающих выдвинуть требование об обращении излишних церковных ценностей на помощь голодающим» [25] Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы. М. 1996. с. 118–119.
.
Особенно сложно проходило изъятие ценностей в Петрограде, где во главе местной епархии стоял популярный среди верующих (и избранный ими) митрополит Вениамин (Казанский). В своих взглядах на проблему ценностей он был близок к Патриарху Тихону. Но он готов был идти и дальше него в уступках властям и необходимости. Он готов был жертвовать даже священные предметы, но при условии, что все прочие средства помощи голодающим будут исчерпаны, что все пожертвования действительно дойдут до голодающих, что на пожертвование будет получено благословение Патриарха. В своем письме в губисполком он требовал для Церкви права самостоятельной благотворительной деятельности [26] Русская Православная Церковь в советское время. Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью. Кн. 1.М. 1995. с. 150–151.
. В письме в губернский Помгол от 25 апреля Вениамин утверждал, что Церковь готова пожертвовать даже священные сосуды, но предварительно переплавив их в слитки. В случае отказа властей выполнить все эти условия Вениамин не отказывался от участия в помощи голодающим, но запрещал жертвовать священные богослужебные предметы [27] Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы. М. 1996. с. 106–108.
. В воззвании к пастве от 10 апреля митрополит призывал ее жертвовать ценности за исключением особо священных предметов, но ни в коем случае не прибегать к насилию и не использовать ситуацию в политических целей [28] Русская Православная Церковь в советское время. Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью. Кн. 1.М. 1995. с. 169–171.
. Советская власть, однако, не терпела, когда ей ставили условия. К тому же несмотря на усилия митрополита столкновений верующих с властями (без серьезных, правда, последствий) избежать все же не удалось. Митрополит был арестован и 10 июня вместе с другими клириками и с православными мирянами был предан суду. 5 июля был вынесен приговор. 10 человек было приговорено к расстрелу. 6 были впоследствии помилованы, четверо — казнены, среди них митрополит Вениамин.
Еще в мае в Москве проходил аналогичный процесс, результатом которого стала казнь 11 обвиняемых (среди них многие — священники). Патриарх Тихон, проходивший сначала по делу как свидетель, был привлечен к суду как обвиняемый и вскоре арестован. Ему вменялись в вину едва ли не все эксцессы, произошедшие в ходе кампании по изъятию ценностей. Затруднительное положение Патриарха создало благоприятную почву для церковного раскола, поддержанного властями.
Кампания по изъятию ценностей проходила неодинаково в разных частях страны. Где-то все прошло мирно (например, в Саратове), в других местах возникали серьезные конфликты (Смоленск, Псков). Где-то даже «буржуазные элементы» оставались в стороне от происходящего, где-то на защиту церковных святынь вставали даже рабочие (Одесса). Все попытки сопротивления беспощадно подавлялись. Погибли сотни, если не тысячи священников, монахов и монахинь. Государство и Церковь по-прежнему находились в состоянии ожесточенного противостояния.
Не стоит сомневаться в том, что и многие православные клирики и миряне, и многие представители новой власти искренне желали помочь голодающим. Но им не удалось достичь взаимопонимания во многом потому, что гуманная акция помощи Поволжью была превращена в политическую кампанию, в ходе которой стороны часто не слышали друг дуга и отказывались от каких бы то ни было уступок. И если руководство Церкви, имевшее намного меньше шансов в этой борьбе, еще как-то демонстрировало готовность к диалогу на определенных условиях, то лидеры большевистской партии действовали по принципу: «если враг не сдается, его уничтожают».
ОБНОВЛЕНЧЕСКИЙ РАСКОЛ
Как уже было сказано, внутри Церкви еще до революции существовали различные мнения и направления по поводу ее внутреннего устройства и богослужебной практики. Еще в 1906 году появилась «группа 32-х священников», выдвигавшая реформаторские требования (брачный епископат, русское богослужение, григорианский календарь). Однако тогда эти реформаторские тенденции не получили развития. Поместный Собор 1917–1918 годов при всей своей преобразовательной активности в общем не пошел на радикальные реформы. В области богослужения он не изменил ничего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: