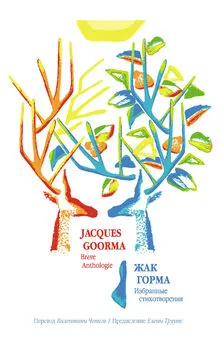Жак Маритен - Избранное: Величие и нищета метафизики
- Название:Избранное: Величие и нищета метафизики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РОССПЭН
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Маритен - Избранное: Величие и нищета метафизики краткое содержание
Жак Маритен (1882–1973), крупнейший религиозный философ современности, основоположник, наряду с Э. Жильсоном, неотомизма, сосредоточен не столько на истории мысли, сколько на продвижении томистской доктрины в собственно метафизической области. Образцы такого рода труда, возвращающего нас в сферу «вечной философии», представлены в настоящем томе. В противовес многим философским знаменитостям XX в., Маритен не стремится прибегать к эффектному языку неологизмов; напротив, он пользуется неувядающим богатством классических категорий. Общая установка его — сберегающая, исходящая из конфессионального взгляда на мир как на разумный в своем прообразе космос, чем сближается с интуицией русской религиозной философии. В том вошли также работы по теории искусства и проблемам художественного творчества, рожденные как отклик на сюрреалистические эксперименты, поставившие перед мыслителем задачу возвратить искусствоведческую мысль к твердым основаниям метафизики Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского и соотнести с ней современную ситуацию в художественном творчестве.
Избранное: Величие и нищета метафизики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Есть два метода определения понятий: метод, свойственный Новому времени, который можно назвать материальным — через более широкий круг явлений, — и метод, свойственный древним, который мы назовем формальным — через обращение к чистому случаю.
При первом методе сразу очерчивается пространная область, охватываемая словом, взятым в грубом значении, во всем объеме, который оно имеет в обиходном языке, так что возникает риск захватить самые разнородные составляющие, как это случилось с Уильямом Джемсом при изучении религиозного опыта. При втором методе первоначально рассматривается самый ясный и самый типичный случай, когда слово, о котором идет речь, употребляется в собственном смысле, представляя собой ту умопостигаемую форму, которую в первую очередь и означает, а затем смысл, открывшийся таким образом, постепенно расширяют, распространяя понятие и извлекая из него все до крайних пределов его растяжимости.
Пользуясь этим вторым методом и обращаясь к компетентной в данном случае науке, а именно к богословию, можно увидеть, что слово «мистика» собственно и прежде всего относится к «опытному знанию божественного, которое даруется Премудростью» и, в более общем значении, к состоянию человека, «живущего дарами Святого Духа». Вот совершенно точное понятие мистики. Она есть жизнь интеллектуальная и чувственная одновременно, причем в наивысшей степени, поскольку дар Премудрости предполагает Любовь, но сам находится в области интеллекта: мистик встает выше разума — в силу единства с первоначалом разума; интеллект в нем подчиняется Любви — потому, что мы не имеем возможности в этой жизни видеть Бога, и только Любовь позволяет нам стать сосущными божественному и тем сообщить нам сверхразумное знание о божественном.
Как же тогда это богословское по сути понятие может деградировать, приобретя расширительное значение?
Это может случиться, если оно перейдет в план природы и тогда станет означать всякое усилие, предпринятое чтобы достичь единения с Богом или с каким-либо суррогатом Бога (Абсолютом, Истиной, Совершенством, Всемогуществом и т. п.), превосходя разум, но при помощи какого-либо естественного средства: либо чувства, и тогда мы имеем сентиментальный мистицизм («бельфегоризм», говоря модным словцом), либо чистого интеллекта, и тогда имеем или интеллектуальный мистицизм (можно сказать, «гностицизм» в самом широком смысле), или ту разновидность метафизического экстаза, черты которого, по-видимому, запечатлели Упанишады.
Наконец, если понятие мистицизма еще более опускается и деградирует, мистиком назовут того, кто руководствуется не разумом, а квазирелигиозной «верой» в тот или иной идеал (или миф), — в этом смысле Пеги говорил о республиканской мистике. В еще более общем смысле мистиком назовут человека, естественно предрасположенного к тому, чтобы признать невидимый мир более важным для нас, чем видимый, и искать в вещах составляющую, которую не может воспринять простое рациональное познание.
Так можно объединить (впрочем, с должным различением степеней их ценности) большую часть принятых ныне употреблений слова «мистика», но при этом видно, что все эти вторичные словоупотребления тем менее точны, чем больше удаляются от типического смысла понятия, относящегося к полной власти Духа Святого над душой, к состоянию, которое не только сверхразумно, но и по сущности сверхъестественно. Это понятие может быть расширено только через внешние аналогии с состоянием метафизического сосредоточения, которое в даже своем последнем пределе может лишь прикоснуться к естественному интеллекту бесплотных духов, а далее либо с иллюзиями, которые в силу чрезмерных притязаний интеллекта или, напротив, пренебрежения им принижают человека до нижеразумного состояния, либо просто с естественной склонностью, влекущей к таинственному.
«Около столетия назад, — пишет г-н Сейер, — Балланш включил его [Руссо] в число великих мистиков, явившихся благодаря проповеди Иисуса вслед за Данте и святой Терезой». Это все равно, что включить шимпанзе в число великих людей, явившихся благодаря акту творения вслед за Авраамом и Воозом.
[280]
R.P. de Cassade. L'Abandon à la Providence Divine, t. I, p. 115.
[281]
«Второй диалог». Вот это признание автора «Эмиля»: «Я сказал, что Жан- Жак не добродетелен, и наш человек добродетельным также не будет — да и как ему быть добродетельным: ведь он слаб и покорствует склонностям, вождь его — всегда сердце, никогда не долг и не разум? Как добродетель, которая вся — труд и брань, может царить там, где лень и чистые неги? Он будет добр, потому что таким его сотворила природа; он будет делать добро, потому что ему приятно его делать, но если потребуется сражаться с самыми дорогими желаниями, разрывать себе сердце, чтобы исполнить долг, — станет он это делать? Сомневаюсь. Закон природы, по крайней мере, глас природы, так далеко не зовет. Значит, нужен другой закон, призывающий к этому, повелевающий природе замолчать. Но будет ли наш человек ставить себя в столь тягостные положения, где рождаестя столь жестокий долг? Еще более сомневаюсь…»
[282]
Как мне представляется, любопытный свет на происхождение этих псевдомистических идей бросает следующий текст, относящийся к 1769 г. В нем прекрасно видно, исходя из каких истин, сильно прочувствованных, но тотчас же преувеличенных, произошел сдвиг:
«Будучи всегда откровенен с собой, я чувствую, что на мои рассуждения, даже самые простые, налагается бремя внутреннего одобрения. Вы полагаете, что надобно этого остерегаться — я не могу думать так же и, напротив, нахожу в таком сокровенном суждении естественную оборону против софизмов моего рассудка. Боюсь даже, что в настоящем случае вы смешиваете потаенные склонности нашего сердца, вводящие нас в заблуждение, с тем еще более глубоким, более сокровенным побуждением, которое возмущается и ропщет против таких небескорыстных решений и вопреки нам возвращает нас на путь истины. Это внутреннее чувство и есть чувство самой природы; это ее зов наперекор софизмам рассудка, а доказательство тому — что громче всего оно говорит тогда, когда наша воля с наибольшим подобострастием уступает перед суждениями, которые чувство упорно отвергает. Я нисколько не думаю, что тот, кто судит согласно с ним, подвержен ошибкам, — напротив, полагаю, что оно никогда нас не обманывает, что оно — свет нашего слабого разумения, когда мы хотим идти дальше того, что можем понять» (письмо к неизвестному из Бургуена, 15 января 1769). Ср. также письмо к маркизу Мирабо от марта 1767 г. (не отправлено): «Я совершенно уверен, что мое сердце любит только добро» («Revue de Paris», 15 sept. 1923).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: