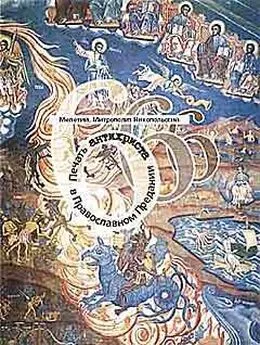Иоанн Мейендорф - Иисус Христос в восточном православном предании
- Название:Иисус Христос в восточном православном предании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПСТБ
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иоанн Мейендорф - Иисус Христос в восточном православном предании краткое содержание
Оп.: Прот. Иоанн Мейендорф. Иисус Христос в восточном православном богословии / Пер. с англ. свящ. Олега Давыденкова, при уч. Л.А.Успенской, примеч. А.И.Сидорова. М, ПСТБИ, 2000.
Иисус Христос в восточном православном предании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это основное направление в учении греческих Отцов об изначальном участии человека в божественной жизни, о свободе как выражении этого участия, о грехе как следствии рабства диаволу и плоти и, наконец, об Искуплении, которое восстановило человеческую природу в воскресшем Христе, определяет большинство течений в христианской духовности и аскетике византийского периода. Много поспешных, а следовательно, неверных суждений об этой духовности вынесено авторами, рассматривавшими ее с западной точки зрения, сформированной полемикой между пелагианством и учением Августина или же ансельмовой теорией Искупления. Постараемся представить главные направления вышеупомянутого типа духовности исходя из проблематики, свойственной восточному христианству, и абстрагируясь от западных мнений.
В V и VI вв., во времена великих споров между православными и монофизитами, византийское монашество переживало процесс преодоления глубокого внутреннего кризиса, отдельные черты которого встречались нам, когда речь шла об оригенизме. С момента своего возникновения монашество занимало центральное место в религиозной жизни христианского Востока. Оставляя мир и новое христианское общество, принявшее и использовавшее условия империи, монахи сделали своей миссией воплощение Церкви в ее небесном аспекте, противопоставляя его узаконенным структурам «мира сего». Поскольку христианская жизнь в целом понималась как причастие жизни божественной, как процесс обожения, от которого Адам был отлучен в результате грехопадения, но которое снова стало доступно во Христе, основной задачей монахов было осуществить это причастие во всей полноте. Такая задача, однако, требовала своей метафизики, антропологии, космологии, и неоплатонизм предложил готовую систему, которая, благодаря своему созерцательному характеру, презрению к материальному, теоцентризму, казалась прекрасно приспособленной для особенностей монашеского мировосприятия. В этом кроется успех оригенистского движения, наиболее ярко выраженного в трудах и личности Евагрия Понтийского. Евагрий представил соответствующую философскую систему, которая обосновывала монашеский аскетизм и борьбу со «страстями» плоти: дух (nous) нуждался в освобождении, ибо он, хотя и был создан бестелесным, но, злоупотребив своей свободой, ниспал с высоты первоначального величия до состояния телесности.
Система и терминология Евагрия были восприняты позднейшими поколениями монахов. Основанием этой системы являлось прежде всего различие между деланием (praxis или praktikh meqodos и созерцанием (теорией или гносисом). Делание заключается, главным образом, в борьбе со страстями (ta paqh) и исполнении евангельских заповедей. Любое греховное действие рассматривается как проявление внутреннего состояния души — страсти. Причем страсть — это не только состояние души, но и средство, используемое диаволом для порабощения человека. Поэтому для того чтобы добиться освобождения ума, нужно дойти до источника зла. Анализ мира страстей, отношений между ними и способов освобождения от них свидетельствует о том, что Евагрий прекрасно знал человеческую душу. Примером этого может служить его описание состояния духовного безразличия, «уныния»:
Бес уныния, который называется также полуденным (Пс. 90:6), тяжелее всех бесов. Он приступает к монаху около четвертого часа и осаждает душу его до восьмого; сначала заставляет его с неудовольствием видеть, что солнце медленно движется, или совсем не движется, а день будто длится сорок часов. Потом понуждает его почасту посматривать в окно или даже выходить из келлии — взглянуть на солнце, чтоб узнать, сколько еще до девятого часа (времени вечерни и приема пищи), причем не преминет внушить ему поглядеть туда и сюда, нет ли кого из братии… Тут же он вызывает у него досаду на место и на образ жизни, и на рукоделие, прибавляя, что иссякла любовь у братии и нет утешающего. Если в те дни кто–нибудь оскорбил монаха, то и это напоминает демон к умножению досады. Затем заставляет его желать других мест, где было бы удобнее находить все необходимое, а рукоделие было бы менее трудно, но более прибыльно, ведь Богу везде можно поклоняться. Вместе с тем вызывает воспоминания о домашних и о прежнем довольстве, а тут пророчит долгую жизнь, представляет труды подвижничества, и всякие употребляет хитрости, чтоб монах наконец оставив келлию, бежал с поприща.
Этот текст, столь конкретный, столь близкий жизни пустынных монахов, которую вел и сам Евагрий, показывает не только, что автор — ученый–неоплатоник, но и что он свидетельствует о лично пережитом опыте. Аналогично Евагрий анализирует и другие страсти, овладевающие душой: чревоугодие, блуд, сребролюбие, печаль, гнев, тщеславие, гордость, — всякий раз показывая, через какие стадии проходит каждая из них, овладевая душой, и противопоставляет им соответствующие добродетели. Все страсти можно победить верой, которая приводит к воздержанию и в конце концов — к бесстрастию (apaqeia), высшей цели делания. Благодаря бесстрастию, человек становится свободным и может развивать в себе божественную любовь (agaph), всецело предаваясь созерцанию (qewria), самым ярким проявлением которого является непрестанная «умная» молитва.
Молитву, основной труд монахов, буквально понимавших предписание Павла: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17), Евагрий рассматривал как главное средство освобождения ума:
Нерассеянная молитва есть высшее достижение ума…, восходящего к Богу… Состояние молитвы есть бесстрастие, которое благодаря высшей любви возносит премудролюбивый дух на умные вершины. Молитва — это делание, достойное ума, иными словами, лучшее и самое подходящее его применение.
Освобождение ума подразумевает, согласно Евагрию, дематериализацию. Молитва для него — «преддверие невещественного ведения» (prooimion ths aulou gnwsews): «Невещественный, иди к Невещественному, и уразумеешь», — вот его совет монаху. По словам Владимира Лосского, «перед нами — совершенно оригенистская концепция: как и для Оригена, для Евагрия yuch (душа) является искажением nous (ума), который, становясь материальным, отходит от Бога. Но он снова становится «умом» в созерцании, совершеннейшая стадия которого — чистая молитва».
Вернувшись к своему первоначальному назначению, ум сможет созерцать творение (jusikh qewria) не через кривое зеркало страстей, пленявших его, но в свете божественного Логоса, с Которым отныне он находится в общении. И, наконец, ум сможет созерцать и познавать Самого Бога, т. е. иметь доступ к истинному богословию, ведению Святой Троицы, что Евагрий отождествляет с Царствием Божиим. Высшая стадия восхождения души к Богу не требует для ума «выхода из себя», поскольку оригенистская метафизика основывается на признании природного родства между божественным и умственным:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: