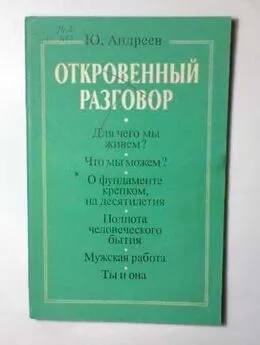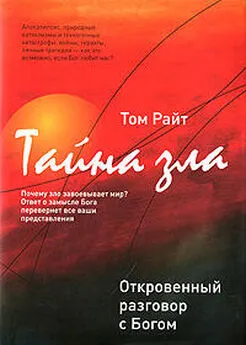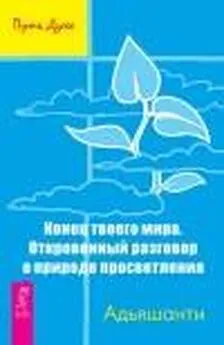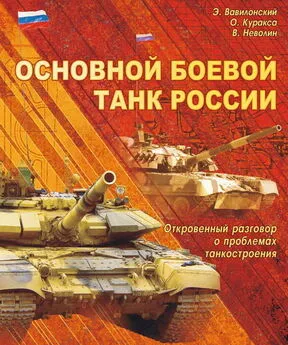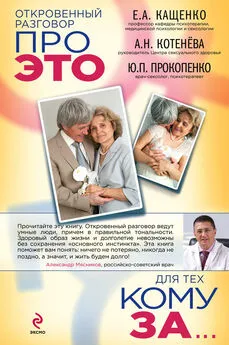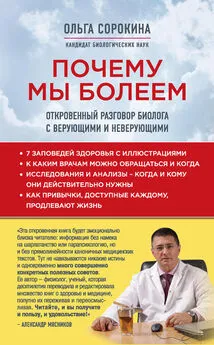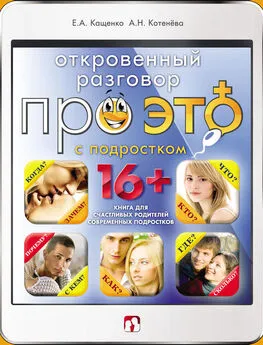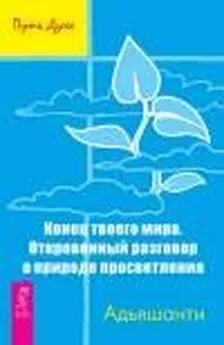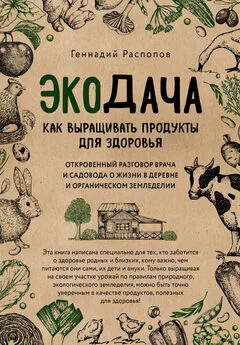А Осипов - Откровенный разговор с верующими и неверующими
- Название:Откровенный разговор с верующими и неверующими
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А Осипов - Откровенный разговор с верующими и неверующими краткое содержание
Откровенный разговор с верующими и неверующими - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А душа просила чего-то большего. И жила в ней тоска по родному, русскому... Хотя и эстонскую землю тоже полюбил крепко.
А между тем и скауты, и школа, и газеты, и все окружающее учили антисоветчине. Мальчишкой был. Многому верил. Стишки пописывал, нередко с антисоветским оттенком. А сам делам людей советских мысленно аплодировал, гордился ими, как "нашими", "своими"... О Советском Союзе жадно читал... И осуждал с чужого голоса... И тянулся собственным сердцем... Метался.
КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ МОЯ ВЕРА
"Закон божий" преподавали нам в школе. Дома о вере слышал немного. Бабушка и мать принадлежали к тем людям, о которых говорят, что они имеют бытовую веру. В церковь ходили, но фанатичками никогда не были. Бабушка была из кронштадтских портних. Проучившись всего полтора года в школе, она стала женой офицера, попала в общество дворян и баронов, но и там сумела завоевать всеобщее уважение. Много читала, была жадна до знаний, очень добра и справедлива. О вере все слова дедовы повторяла: "Хочешь веру не растерять держись подальше от духовенства!"
В скаутах нас пытались, что называется, "натаскать" в религиозном духе. Даже сборы назначали к службе в соборе, а оттуда уже вели куда-либо. Но я научился к обедне приходить не раньше, чем к "Отче наш..." Особых религиозных чувств во мне в то время не было. Верил, но и думал. Естествознание, которое я любил, учило скорее неверию, хотя учительница по этому предмету и была усердной церковницей. Помню, пришел я как-то из школы домой и заявил матери:
- А человек-то не богом сотворен, а от обезьяны произошел. Это научный факт! Мать шуткой ответила:
- Ну, знаешь! Может быть, твоя мать и обезьяна, а моя нет!
Так и жил. И что из меня вышло бы, не знаю. И естественник во мне шевелился, и поэт. Но жизнь поставила надо мной неожиданный опыт, пути ее совершили непредвиденный зигзаг...
Было это в 1928 году. Я учился в предпоследнем классе гимназии. В этом году в Таллине возникли религиозно-философские кружки так называемого Русского студенческого христианского движения (РСХД). Это была эмигрантская организация, имевшая центр в Париже и тесно связанная с Парижским эмигрантским богословским институтом, финансировалась она из США американскими международными молодежными организациями ИМКА и ИВКА и Всемирной христианской студенческой федерацией. Хотя организация и называлась студенческой, двери ее были призывно открыты для людей всех возрастов и любого образовательного ценза. Вошли в один из таких кружков и некоторые мои соученики. Пригласили и меня. Вне коллектива я всегда чувствовал себя одиноко и скверно. Пошел. Настороженно, но пошел.
В кружке было много молодого задора, интереса к России. Было дружно и весело. И я чувствовал, как все во мне встрепенулось. Обрадовался и возможности работать, и возможности изучать родное, русское. И тоска по родине, и тоска по коллективу, как мне показалось, нашла свой выход. Вскоре я стал одним из лидеров молодежного кружка...
Изо дня в день учили нас ненавидеть все нерелигиозное, считать, что "без бога ни до порога", что только в боге - жизнь, реальный прогресс, будущее и счастье как России, так и всего человеческого рода, что без религии немыслима самая мораль.
Говорили убедительно. Говорили люди, которые всеми вокруг превозносились как самые передовые, умные и глубокие. Говорили профессора (Вышеславцев, Зандер, Зеньковский и другие), философы (Бердяев, Арсеньев, Ильин), "пастыри" (Четвериков, Богоявленский), писатели, художники. Об этом же писали, твердили книги, газеты, радио, взывали ораторы с кафедр и амвонов. И тем не менее антисоветчика из меня не вышло. Вывезенный из Советского Союза в одиннадцатилетнем возрасте, я не мог его позабыть.
В РСХД я нередко бунтарил, проявлял "розовые" тенденции. Но религия на много лет определила мое мировоззрение. Я стал убежденным православным верующим человеком. При этом верующим не по неясному влечению чувств, а в силу усвоенных в тот период, как мне казалось, неопровержимых и единственно правильных знаний.
Некоторая начитанность, любознательность, широкий круг интересов и склонность к обобщениям и анализу скоро позволили мне усвоить и общий круг богословских знаний, и я стал, как говорили, довольно интересным докладчиком. В 1929 году летом, как участник II съезда РСХД в Прибалтике, в Печерском монастыре, я был избран секретарем съезда и даже выпустил книгу о нем ("У родных святынь"), впрочем, без имени автора. Еще до этого, с 1926 года, печатался изредка в газетах и журналах (стихотворения), и потому за мной теперь установилась "слава" не только оратора, но и писателя.
Все это обратило на меня внимание нашего руководителя протоиерея И. Я. Богоявленского, магистра богословия, церковного писателя (и, наконец, очень умного, хотя и фанатически верующего человека), эмигранта из Гатчины, бывшего одно время до революции сотрудником известного мракобеса Иоанна Кронштадтского.
"НУЖНА НАМ ДОБРАЯ СМЕНА..."
Однажды после заседания кружка Богоявленский предложил мне остаться "для серьезной беседы". И сказал:
- Видишь ли, Шуренька! Мы стареем, а дело церкви должно жить. Нужна нам добрая смена. И вот благотворительное общество "Помощь бедным" при нашем соборе решило учредить при православном отделении богословского факультета Тартуского университета стипендию для одного русского студента. Что бы ты сказал, если бы я предложил ее тебе? Ты еще гимназии не кончил. Время подумать есть. Ты мне сейчас ответа не давай, а думать - думай крепко. Долго беседовал он после этого со мной о высоких задачах пастырства. Утешать. Отирать слезы. Помогать людям находить выходы из тупиков жизни. Поддерживать отчаивающихся. Давать внутренний стержень, зарождая в людях желание жить и бороться за лучшее, за правду...
Домой я шел в полном смятении мыслей. Так неожиданно было для меня это предложение. Ведь ни разу до этого не приходила мне в голову подобная мысль. Мое религиозное мировоззрение укрепилось и четко оформилось. Но себя я мысленно видел лишь честным человеком и добрым христианином, способным осуществлять высокие идеалы добродетели только на светском поприще. И лишь колебался, какой путь мне избрать: естествоиспытателя, геолога или же попытать силы на литературном поприще. И вот передо мной открывают еще один путь. Путь, о котором я никогда не думал...
Так жизнь поставила меня перед выбором, который должен был решить мою судьбу. И я начал думать. При всей своей юношеской неопытности, горячности (а мне шел восемнадцатый год), мечтательности я думал до головной боли... Взвешивал, примерялся, спорил сам с собой... И теперь уже жадно и даже несколько настороженно присматривался ко всему касающемуся церкви и духовенства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: