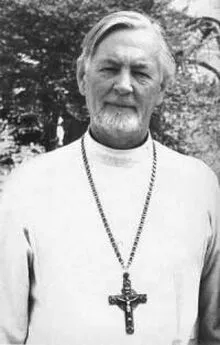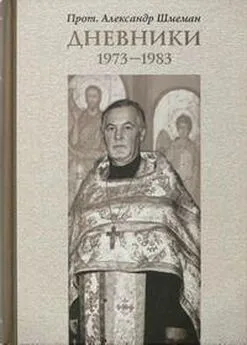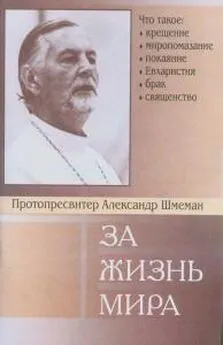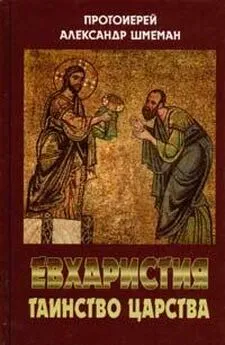Протоиерей Александр Шмеман - Статьи
- Название:Статьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Протоиерей Александр Шмеман - Статьи краткое содержание
Статьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Главное же, что я хотел сказать: эсхатологический символизм остается, несмотря на все богословские, мистические или изобразительные интерпретации и объяснения, основополагающим символизмом византийской литургии. Когда по прочтении всех бесчисленных толкований мы возвратимся от «богатого символизма», который они усматривают в византийском богослужении, к самой литургии, к свидетельству ее молитв и обрядов, ее ordo и ритму, мы сможем пережить опыт духовного освобождения. Ибо мы откроем подлинное литургическое богословие, то есть богословие, для которого литургия не «объект», но сам источник. Другими словами, мы вновь откроем позабытую истину древнего изречения: lex orandi lex est credendi .
Пер. с английского свящ. А. Дудченко под редакцией И. Мялковского и Ю. Вестеля.
Таинство и символ
1
Основная трудность, с которой сталкивается православный христианин, когда речь идет о таинствах, — необходимость выбирать между разными пластами своей богословской традиции. Если он остановится на более близком нам времени и более официальном «школьном богословии» («theology of manuals»), которое стало складываться в православных богословских школах, начиная с XVI в., его представления будут, конечно, очень сходны с любым латинским «De sacramentis». От общего определения таинств как «видимых средств невидимой благодати» он перейдет к различению в них «формы» и «вещества», к установлению их Христом, к их числу и классификации и, наконец, к их должному совершению как условию их действенности. Однако сегодня все больше православных богословов признают тот факт, что такой подход к таинствам, хотя он и был общепринятым и ему обучали на протяжении нескольких веков, имеет очень мало общего с истинной традицией Восточной церкви. Он видится, скорее, как одно из наиболее прискорбных последствий и проявлений «псевдоморфозы», которую претерпело православное богословие с конца эпохи патристики, когда трагические условия церковной жизни вынудили православных «ученых мужей» некритически воспринять западные богословские категории и систему взглядов. Результатом этого стало сильно ориентированное на Запад богословие, традиции которого сохранялись (и в известной степени сохраняются поныне) в духовных учебных заведениях. В России, например, богословие преподавалось на латыни вплоть до 40–х годов XIX века! «Западное пленение» православного богословия решительно осуждалось лучшими богословами последнего столетия, и сегодня существует представительное движение, направленное на восстановление нашим богословием своих исторических корней и методологии. Возврат к св. отцам, к литургическим и духовным традициям, которые по существу игнорировались «школьным богословием», начинает приносить свои плоды. Этот процесс, тем не менее, находится еще в своей начальной стадии, и в области богословия таинств еще почти ничего не сделано, что означает, что любая попытка «восстановления» и «возрождения» неизбежно будет здесь лишь предварительной и пробной.
Первоочередная задача состоит, таким образом, в том, чтобы восстановить истоки, поставить вопросы, которые в рамках устаревшего школьного богословия не только не могли найти ответа, но даже не могли быть сформулированы.
2
Что такое таинство? Отвечая на этот вопрос, западное и «прозападное» постпатристическое богословие помещает себя в рамки ментального контекста, который значительно, если не радикально, отличается от существовавшего в ранней церкви. Я говорю ментальный , а не интеллектуальный, так как различие здесь принадлежит уровню, намного более глубокому, чем просто интеллектуальные положения или богословская терминология. Богословие эпохи св. отцов, несомненно, было не менее «интеллектуальным», чем схоластика, а что касается терминологии, то именно ее непрерывная преемственность, использование тех же слов, как бы ни изменялось их значение, могла сделать неявным разрыв между двумя типами богословия таинств.
Внешне или формально это изменение состояло прежде всего в новом подходе богословия таинств к самому объекту своего исследования. В ранней церкви, в трудах св. отцов таинства, с тех пор как их стали пытаться систематически интерпретировать, всегда объяснялись в контексте своего непосредственного литургического совершения, когда объяснение по существу являлось экзегезисом самой литургии со всей ее обрядовой сложностью и точностью. Средневековое «De sacramentis», однако, стремится с самого начала отделить таинство от его литургического контекста, найти и выразить в понятиях максимально точно его суть , т. е. то, что отличает его от не–таинства. Таинство в определенном смысле начинают противопоставлять литургии. Оно, конечно, имеет свое богослужебное выражение, свой «знак», который относится к его сути, но этот знак рассматривается теперь как онтологически отличный от всех других таинств, символов и обрядов церкви. И из–за этого отличия только знак таинства становится во всем богослужении единственным заслуживающим внимания богословов объектом. Можно, скажем, читать и перечитывать прекрасные комментарии к таинствам в «Summa» св. Фомы, так ничего и не узнав об их литургическом совершении. Можно также скрупулезно изучить практически все, что есть в православии и католичестве о священстве, не встретив ни одного упоминания о традиционной и органичной связи между рукоположением и евхаристией. С точки зрения историков богословия, такое изменение связано с тем, что они называют развитием «научного богословия» и «более точных» методов в нем. На самом деле, однако, это изменение, будучи далеко не чисто внешним, имеет корни в глубокой трансформации философских взглядов, по существу, всего богословского мировоззрения. И если мы хотим установить первоначальное значение таинства, нам надо прежде всего попытаться понять природу этой трансформации.
3
Чтобы упростить нашу задачу, мы можем как точку отсчета для этого исследования взять долгий и хорошо известный спор, который от начала до конца определяет на Западе развитие богословия таинств, и особенно евхаристического богословия. Это спор о реальности присутствия . Нигде так ясно не прослеживается эта разграничительная линия между двумя подходами к таинству, равно как и причины, которые привели к переходу от одного к другому. В контексте этого спора понятие «реальный» очевидно содержит в себе возможность присутствия иного рода, которое поэтому является не реальным. Это иное присутствие в Западном богословии и научной мысли, как мы знаем, принято обозначать словом символический . Мы не можем здесь углубляться в очень сложную и во многих отношениях запутанную историю этого понятия в западной мысли. Очевидно, что в существующем языке богословия, поскольку он формируется между Каролингским возрождением и Реформацией и несмотря на все разногласия между соперничающими богословскими школами, «несовместимость между символом и реальностью», между «figura et veritas» всегда утверждалась и признавалась. Утверждению «mystice, non vere» соответствует не менее категоричное «vere, non mystice». Св. отцы же и вся ранняя традиция — и здесь мы подходим к самой сути проблемы — не только не знают этого различения и противопоставления, но для них символизм неотъемлем (is the essential dimension) от таинства и служит единственным ключом к его пониманию. Преп. Максим Исповедник, выдающийся представитель святоотеческого богословия таинств, называет Тело и Кровь Христа на Евхаристии символами («symbola»), образами («apeikonismata») и тайнами («mysteria»). «Символическое» здесь не только не противопоставляется «реальному», но предполагает его (embodies it) как свое непосредственное выражение и способ проявления. Историки богословия, больше всего радея о поддержании мифа о преемственности богословия и его методичной «эволюции», и здесь умудряются относить это за счет «неточности» святоотеческого богословия. Такое впечатление, что они не понимают, что святоотеческое употребление понятия «symbolon» и связанных с ним не «расплывчатое» или «неточное», а просто отличное от того, что мы видим у более поздних богословов, и что последующая трансформация этих понятий становится источником одной из величайших трагедий богословия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: