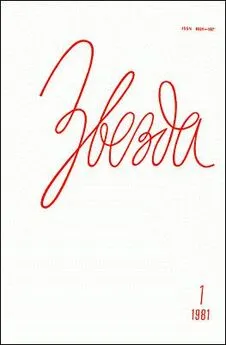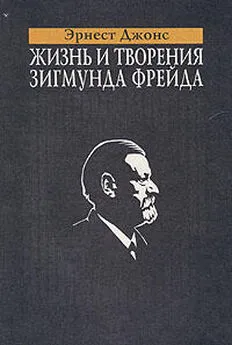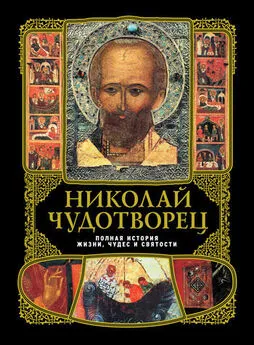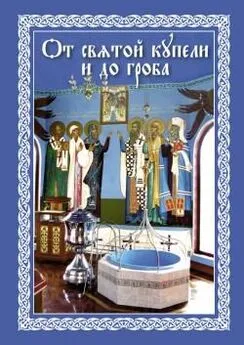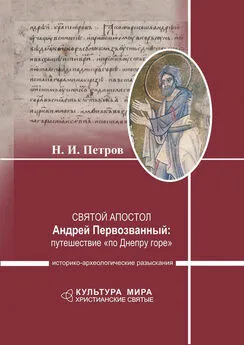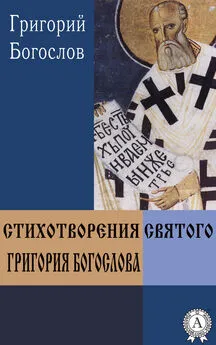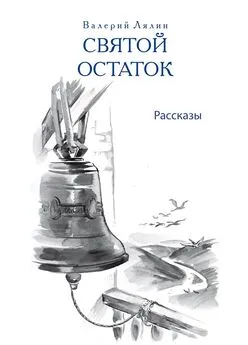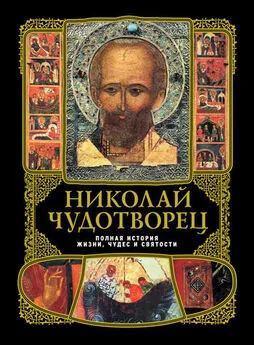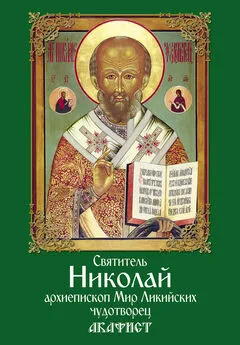Николай Сагарда - Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский. Его жизнь, творения, богословие
- Название:Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский. Его жизнь, творения, богословие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Воскресение» (РПАБН и Н-БИ)
- Год:2006
- Город:СПб
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Сагарда - Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский. Его жизнь, творения, богословие краткое содержание
По благословению Высокопреосвященнейшего КОНСТАНТИНА,
Архиепископа Тихвинского, Ректора Санкт–Петербургской Духовной Академии
Блестяще написанная диссертация знаменитого патролога, профессора Санкт–Петербургской Духовной Академии Николая Ивановича Сагарды, является первым не только в отечественной, но и в мировой патрологии фундаментальным исследованием о жизни и творениях св. Григория Чудотворца. За этот труд, удостоенный Макарьевской премии, автору была присуждена степень доктора церковной истории.
Впервые изданное в 1916 году, это исследование давно стало библиографической редкостью. Предпринятое ныне его переиздание имеет целью познакомить читателя с одним из лучших произведений Русской патрологической науки.
Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский. Его жизнь, творения, богословие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нельзя согласиться с мнением А. Маи и В. Рисселя относительно происхождения рассматриваемого отрывка из Διάλεξις πρός Αίλιανόν в виду того, что по своему содержанию он совершенно не отвечает тому представлению о трактате св. Григория, какое получается о нем из кратких сведений, сообщенных св. Василием Великим: автор входит в такие подробности таинственного учения о Троице, которые едва ли допустимы в беседе с язычником. Что св. Григорий в подобных случаях умел оставаться в области общих философских рассуждений, об этом в достаточной степени свидетельствует его трактат к Феопомпу о том, подлежит или не подлежит Бог страданию, где только в самом конце и при том очень кратко св. Григорий прилагает результаты пространного рассуждения к страданиям Иисуса Христа. Кроме того, в нем незаметно той сильной полемической окраски, на которую указывает св. Василий Великий. Ho, с другой стороны, нельзя признать несомненным и то категорическое утверждение, будто отрывок непременно предполагает определения Халкидонского собора. Выражения фрагмента относительно соединения во Христе двух естеств не имеют характерных признаков Халкидонского вероопределения; а попытки автора точнее выразить учение о Св. Троице не имеют той определенности, какой достигла эта часть христианской догматики у великих богословов IV века. Из этого нельзя, конечно, заключать о происхождении его непременно в до–никейский период; тем более, что подлежит сомнению возможность в III веке постановки вопроса о том, что вследствие восприятия Словом человеческого естества произошло приращение в Троице — впрочем, история этого вопроса не выяснена. Но общий характер приведенных автором соображений и в особенности его стремление уяснить природу Бога Слова, равно как и некоторое сходство в доказательствах и рассуждениях с посланием к Евагрию, дают основание придать значение надписанию фрагмента в арабской рукописи, и, по крайней мере, не отвергать его совершенно, оставив пока в разряде dubia.
2) Другой фрагмент догматического содержания найден К. Каспари в греческой рукописи Мюнхенской королевской библиотеки (cod. graec. Monac. DIX) XV века [808]; в надписании фрагмента стоит имя св. Григория Чудотворца. Отрывок заключает учение о Св. Троице. Из того, что в нас — говорит автор, — можно познать и то, что выше нас. Ветхий и Новый завет проповедует единого Бога с Словом и Духом, — отсюда и Троица единосущная (ή τριάς ή όμοούσιος), и единица в Троице познается (ή μονάς εν τριάδι γνωρίζεται). Каким образом из того, что в нас, можно познать божественное, это он объясняет на основании анализа слов Быт, 2, 26: „сотворим человека по образу Нашему и по подобию“. Очевидно, в этих словах разумеется не видимое в человеке, а умопостигаемое, так как видимое сложно, а Бог прост. Умопостигаемое в человеке ум, слово и дух, — эти три в человеке равны и не могут быть отделены друг от друга, так как и ум рождает слово и слово движет ум, и ни ум не отделим от слова, ни слово от ума; но слово исходить из ума, когда в нем есть дух; при этом ум остается умом, рождая слово, и слово остается словом и дух остается духом. Так должно мыслить и относительно божественной сущности: Отец остается Отцом и не делается Сыном, и Сын остается Сыном и не есть Дух, и Дух остается Духом и не есть ни Сын, ни Отец, но Дух Святый. Отец рождает Сына и есть Отец, и рожденный Сын есть Слово и остается Сыном; подобным образом и Святый Дух, иже от Отца исходит(Иоан. 16, 23), есть Дух Святый, Которым все освящается. Итак, Отец, Сын и Святый Дух — Троица единосущная. И в нас три ипостаси — ум, слово и дух, — но один человек по умопостигаемому в трех ипостасях.
Этот фрагмент по своему содержанию и общему характеру напоминает предшествующий, но существенно отличается от него весьма определенно выраженным исповеданием „Троицы единосущной“, а также и большею уверенностью и определенностью богословских суждений; почему принадлежность его св. Григорию вызывает больше сомнений, чем первого фрагмента.
3–4) К фрагментам догматического характера относятся и два отрывка, сохранившиеся в сирийском переводе и напечатанные Питрой [809]. В первом речь идет о воплотившемся Сыне Божием; автор восклидает: „Сей есть Тот, Который некогда вывел первый народ из Египта; Сей есть Тот, Который в конце времен всех нас, т. е. человеческий род, свободил от смерти и вывел из преисподней; Сей есть Тот, Который, как овца, был закалаем и считался между овцами; но в конце времен Он Сам был заклан за нас: пасха наша пожрен бысть Христос (1 Kop. V, 7).
Во втором сказано: „Бог не подпадает власти природы; но чего хочет Бог, то и есть природа“.
Первый фрагмент по своему характеру и по тону напоминает приписанные св. Григорию беседы, в частности конец беседы на Богоявление, и вместе с ними должен быть признан не принадлежащим св. Григорию. Что касается второго фрагмента, то в нем заметно бесспорное родство с мыслями, высказанными св. Григорием в трактате к Феопомпу, и нет оснований возражать против действительной принадлежности его св. Григорию.
5) Сюда же относится фрагмент, приведенный у Assemani [810], который находится в одном из произведений Мосульского пресвитера Сабр–ишо, сына Павла, жившего в конце X столетия. Цитаты из его произведения приводит Абд–ишо в своем каталоге сирийских писателей, исповедающих несторианское учение (гл. 20). По этим сведениям Сабр–ишо в своем произведении приводит свидетельства отцов Церкви „в опровержение тех, которые говорят, что Бог пострадал, распят и умер“. Среди этих цитат находится одна, надписанная именем Григория, и Ассеманий предполагает, что под этим Григорием разумеется уважаемый и в сирийской церкви Григорий Чудотворец (s. Gregorii fortasse thaumaturgi). Фрагмент этот следующего содержания: „Безумен и безрассуден тот, кто утверждает, что Бог Слово претерпел страдание вместе с своим храмом [т. е. телом]“. По своей мысли фрагмент, конечно мог бы принадлежать св. Григорию Чудотворцу, как приложение к Богу Слову тех общих положений, какие высказаны в трактате к Феопомпу; но, с другой стороны, эта мысль настолько обычна у писателей позднейшего периода, начиная с V века, что не представляется достаточных оснований категорически утверждать, что под Григорием манускрипта разумеется непременно Григорий Чудотворец.
6) С именем св. Григория сохранилось в сирийском переводе пять небольших, тесно связанных между собою по содержанию, фрагментов, с надписью: „Св. Григория Чудотворца, епископа неокесарийского, из беседы о воскресении“ [811]. В первом отрывке автор доказывает, что Иисус, приглашаемый часто на вечери, ел и пил не призрачно. Во втором и третьем отрывках докетизм опровергается на основании факта обрезания Господа, доказывающего, что Он имел тело, подобное нашему, а не духовное или душевное. Эта же истина подтверждается и истечением крови и воды из бока Распятого, когда один из воинов пронзил его копьем, а также ранами на теле, удостоверяющими, что у Него была истинная плоть, а не божественная, недоступная для ударов. Четвертый фрагмент ссылкою на Гал. IV, 4, 5 опровергает мнение тех, которые утверждают, что Христос родился чрез Марию, а не от Марии. В пятом отрывке автор разъясняет, почему представителям опровергаемого им мнения он приписывает учение о призрачности, — он говорит: то, о чем думают, что оно — плоть, и что всем людям представляется плотью, когда оно на самом деле не плотского естества, должно считаться не чем иным, как призраком.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: