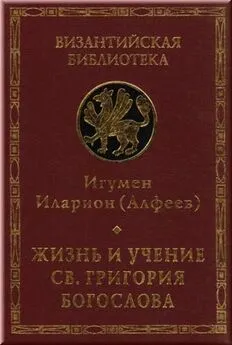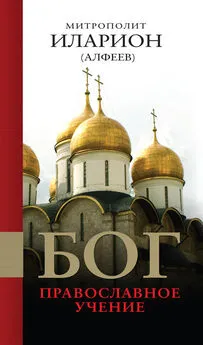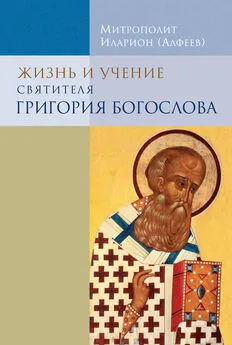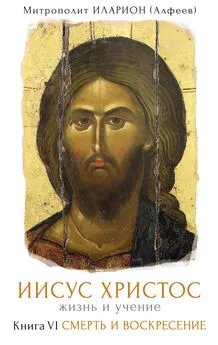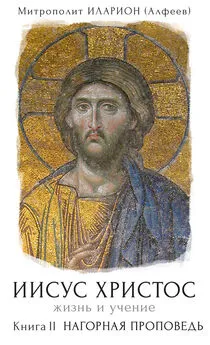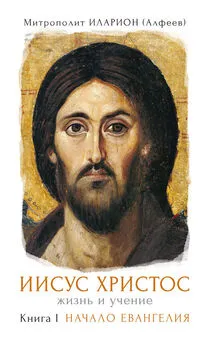Иларион Алфеев - Жизнь и учение св. Григория Богослова
- Название:Жизнь и учение св. Григория Богослова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иларион Алфеев - Жизнь и учение св. Григория Богослова краткое содержание
Жизнь и учение св. Григория Богослова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Далее следует терминологическая дискуссия, которая напоминает вышеизложенный спор о Божестве Сына. Пользуясь терминами, характерными для античной диалектики, Григорий утверждает, что Святой Дух может быть либо субстанцией–сущностью (ousia), либо акциденцией–принадлежностью (symbebēkos). Если Дух есть" "принадлежность" ", то Его можно считать и" "энергией" "Бога. Будучи энергией, Он не является источником энергии, а получает энергию от другого; следовательно, Он прекратится вместе с прекращением источника энергии. Однако Писание говорит о Духе как активном бытии, а не как пассивном приемнике энергии другого: по Писанию, что Дух действует, говорит, отделяет, оскорбляется, бывает разгневан — все это свойственно" "движущему" ", а не" "движению" ". Если же Дух есть" "сущность" ", тогда Он — или Бог, или тварь, так как промежуточного состояния между тварностью и божественностью не бывает. Но если Он тварь, то как мы веруем и крестимся в Него? [889] Термин teleioumetha (букв."бываем посвящаемы" ") указывает на таинство Крещения.
Веровать можно только в Бога, а раз Он — Бог, значит — не тварь (ktisma), не произведение (poiēma) и не сослужебное (syndoulos). [890] Сл. 31, 6, 1–22; 284–286 = 1.446–447.
Ссылка на крещальную формулу звучит убедительнее, чем весь предыдущий диалектический аргумент. Григорий подчеркивает, что вера в Божество Святого Духа является опытом Церкви: веровать и креститься можно только в Бога, а поскольку между Богом и тварью нет ничего среднего, следовательно Дух есть Бог.
Следующие силлогизмы собеседника Григория: Дух или нерожден, или рожден; если нерожден, то появляются двое безначальных; если рожден от Отца, то Он брат Сына, а если рожден от Сына, то появляется Бог–внук. На это Григорий отвечает, что нельзя переносить на Божество все понятия, относящиеся к сфере человеческого родства. Так ведь можно дойти до того, чтобы приписать Богу характеристики пола:
Или, может быть, ты предположишь, что Бог — мужского пола, поскольку называется Богом (theos) и Отцом (patēr), а Божество (hē theotēs) - нечто женское, в соответствии с родом их имен, а Дух (to pneuma) - ни то, ни другое, поскольку Он не рождает? Если же станешь забавляться и тем, что Бог, по старым бредням и басням, родил Сына по Своему хотению, то появляется у нас уже и двуполый Бог Маркиона (Markiōnos theos arhrenothēlys), выдумавшего новых эонов. [891] Учение об" "эонах" "характерно для гностической системы Валентина, а не Маркиона. В дальнейшем изложении Григорий доводит аргументы своего собеседника до абсурда, уподобляя его силлогизмы учению гностиков.
Но поскольку мы не принимаем твоего первого деления, не допускающего ничего среднего между рожденным и нерожденным, то тотчас исчезают у тебя вместе с этим пресловутым делением братья и внуки, и, подобно какому‑то замысловатому узлу, у которого распущена первая петля, тоже распадаются и удаляются из богословия. Ибо где, скажи мне, положишь Исходящее, которое является в твоем делении средним членом, но введено богословом получше тебя — Спасителем нашим? Или ты исключишь, ради своего" "третьего завета" ", и это выражение из Евангелий: Дух Святой, Который от Отца исходит? [892] Ин. 15:26.
Поскольку от Него исходит, то не тварь; поскольку нерожден, то не Сын; поскольку Он между нерожденным и рожденным, то Бог! Так, избежав сетей твоих силлогизмов, оказывается Он Богом, Который сильнее твоих делений. [893] Сл. 31, 7, 17–8, 15; 288–290 = 1.447–448.
Рассуждение Григория об абсурдности применения категорий пола к Божеству весьма интересно. В библейской традиции идея Божества была связана главным образом с мужской символикой: о Боге говорили как об Отце, а не как о матери. В святоотеческой тринитарной традиции эта мужская символика сохраняется: речь идет об Отце и Сыне, а не о матери и дочери."Святой Дух" "в греческом языке — среднего рода (to agion pneuma). В языках семитского происхождения, например, в еврейском и сирийском, слово" "Дух" "(евр. ruah, сир. ruha') - женского рода, однако ранне–сирийские богословы не делают попыток противопоставить женское Божество Духа мужскому Божеству Отца. [894] Ср. Harvey. Imagery, 114.
Древнехристианская традиция не знала ничего подобного современному" "инклюзивному" "языку [895] "Инклюзивным" "называется такой язык, при котором о Боге говорится одновременно в мужском и женском роде:"Он–Она" ","Отец–Мать" "и пр. Этот язык родился в недрах западного феминистского богословия и находит широкое распространение в современных протестанских кругах.
и никогда не подвергала сомнения легитимность мужской символики по отношению к Божеству. Однако, как видно из рассуждений Григория, эта символика никоим образом не воспринималась как вводящая в Божество категорию пола. Грамматический род имен, применяемых к Божеству, не воспринимался как характеризующий Божество в категориях" "мужского" ","среднего" "или" "женского" ".
Выпады Григория против идей" "мужского" "Божества, двуполого Бога и Бога–внука отражают коренное различие в понимании значимости богословского языка между ним и его арианствующими оппонентами. В восприятии последних, имя выражает сущность предмета; для Григория имя не есть сущность, оно — лишь некое словесное приближение к реальности, которая за ним стоит. [896] См. Norris. Faith, 192.
На эту же тему Василий Великий спорил с Евномием, утверждавшим, что различные имена соответствуют различию в сущности предмета и что есть неизменная связь между именем и сущностью. [897] См. Василий. Против Евномия 2, 4. Ср. Евномий. Апология апологии 3, 5 (цит. по: Gregorii Nysseni Opera II, 166–175).
И Василий Великий, и Григорий Богослов видели в евномианской теории Божественных имен грубый антропоморфизм, недостойный Божества. Для Григория, как мы уже отмечали ранее, не существует такого имени или термина, которое могло бы адекватно выразить Божественную реальность: всякое человеческое понятие относительно, когда речь идет о Божестве. Бог есть тайна, и вера в него есть таинство, а силлогизмы по поводу природы Божией суть" "извращение веры и уничтожение таинства (mystēriou kenōsis)". [898] Сл. 31, 23, 22–23; 320 = 1.456.
Еще один вопрос арианина:"Чего недостает Духу, чтобы быть Сыном?"Ответ Григория:"Мы и не говорим, чтобы чего‑либо недоставало, ибо в Боге нет недостатка" ". Отец является Отцом не потому, чтобы Ему недоставало сыновства; и Сын является Сыном не потому, чтобы ему недоставало отцовства. Сын — не Отец, так как есть только один Отец. И Дух — не Сын, хотя и от Бога, потому что есть только один Сын. [899] Сл. 31, 9, 1–10; 290–292 = 1.448.
"Итак, что же? Дух есть Бог? — Несомненно! — Что же, Он единосущен? — Да, потому что Он Бог" ". [900] Сл. 31, 10, 1–2; 292 = 1.448.
Наконец, главное возражение арианина: вера в Божество Святого Духа не основывается на Писании. В ответ на это Григорий приводит несколько аргументов. Во–первых, он указывает на то, что и такие термины, как" "нерожденное" "и" "безначальное" ", являющиеся цитаделями (akropoleis) арианского богословия, не встречаются в Писании. [901] Сл. 31, 23, 1–2; 318 = 1.456.
Или надо отказаться вообще от изпользования вне–библейской терминологии, или не упрекать православных в том, что они ее используют. Однако отказ от вне–библейских терминов, принятие за основу принципа" "sola Scriptura" ", означает, в соответствии с учением Григория, ни что иное, как полную стагнацию догматического богословия.
Интервал:
Закладка: